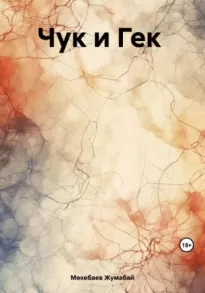Красное вино Победы[сборник 2022]
![Красное вино Победы[сборник 2022]](/uploads/covers/2023-10-29/krasnoe-vino-pobedysbornik-2022-201.jpg-205x.webp)
- Автор: Евгений Носов
- Жанр: Детская проза / Советская детская литература / Авторские сборники, собрания сочинений / Для старшего школьного возраста 16+
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Красное вино Победы[сборник 2022]"
Кулики-сороки
Не спрашивай меня о том,
Чего уж нет,
Что было мне дано
В печаль и в наслажденье.
А. С. Пушкин
В ту весну снега распустило рано, чуть ли не в половине марта, или, как определила моя бабушка Варя, аж на самого Федота, будто бы хранителя санного пути.
Возле бабушкиной избы уличный порядок прерывался никем не занятой излогой, езжий путь прогибался здесь так, что от подводы оставалась видна только одна дуга, мелькавшая в лад с конской побежкой. Днями в эту ложбину забрела из реки ранняя вода, подтопила зимник, и бабушкину избу возницы стали объезжать стороной, огородами.
— Чево деется! — поглядывала она в кухонное оконце, выходившее как раз в излогу. — Это же надо: сам Хведот штаны замочил! Еще недели две опосля Хведота мимо нас на санях ездить бы…
Святочтимого Федота она величала без всякого почтения вроде как обыкновенного деревенского мужика, что-то там не сумевшего спроворить, и не на церковную букву «ферт», а на простоволосый манер: Хведот. Так же, как фонарь называла хвонарем, фуфайку — кухвайкой, а ругательное «финтифлюшка» произносила как «клинтиклюшка». За этот ее косноязычный выговор я, стыдясь за нее, потом долго считал бабушку деревенской темнотой и лишь много спустя открыл для себя, что, оказывается, в исконно славянском языке не было слов на букву «эф» и что все слова с такой буквой в своем начале и даже внутри — чужие, пришлые, несвойственные нашему звукоречию, а потому истинно славянский говор долго сопротивлялся инородному новшеству и переиначивал привнесенные звуки на свой лад. И получилось так, что славяно-русские города всех раньше сдались на милость чужестранного ферта, тогда как удаленные от книжности запредельные селеньица и деревеньки и по сей день упрямствуют, не приемлют чужое, двухперстно, раскольно твердя: Хведор! Хвиллип! Анхвиса! Или: хверма, хвляга, хвуражка, тухли, квасоль, картоха… И было мне, глупому, невдомек, что все эти искажения не от невежества, а следствие естественного, непроизвольного отторжения органов чужого слова, и проистекало оно на уровне православного раскола: тремя перстами осенять душу или двумя? С буквой «эф» осмысливать бытие или без нее?
Тем временем, поглядывая в оконце, баба Варя вовсе не сокрушалась из-за нагрянувшей распутицы, разделившей деревенскую улицу на два конца, и, кажется, была даже рада тому, что какой-то Хведот влез в лужу и замочил штаны. Помянув же о скорых «сорока мучениках», она и тут не померкла лицом в канонической скорби, а как-то озоровато воссияла всеми своими морщинками, верно, своей языческой сущностью больше тяготея не к строгим порталам храма, требующим смирения, а ища и не находя своего бога в родных займищах и кулигах, день ото дня полнившихся вешним лучезарьем, каплезвонким снеготалом, гамом, вскриками и пересвистом сорока сороков сорок, сарычей, грачей и подсорочников.
— Не успел на двор Хведот, а его уже Герасим взашей толкает, — протерла запотевшее стекло бабушка. — А Герасима — Конон, а Конона Василий поторапливает, своего места хочет… У каждого особ норов. На Василья с крыш капает, а за нос еще цапает. Ну, да цапай не цапай, а там уж и сороки — вот они. Знай, готовь квашню, солоди жито… Кулики-сороки полетят…
Был я тогда лет пяти или вначале шестого, медово-рыж, острижен наголо, со следами золотушного крапа, ушаст, безбров и конопат, с болтавшимся на единой жилке верхним молозивным зубом — словом, этакое посконное «чевокало». У бабы Вари я числился внуком-первенцем, так что, если прикинуть, то какая же она бабушка в свои от силы пятьдесят годов? По нынешним временам такие румянят тыквенно округлые щеки и носят вздыбленные гофрированные юбки выше оплывших колен. Моя же баба Варя уже тогда казалась мне законченной бабулей, Варварой Ионовной: под белым косым платочком — желтенькие швыдкие глазки в прищуре, нос утицей, привядшие губы, будто сдернутые шнурочком, чтоб, казалось, не говорила, не просыпала лишнего… Кофтенка на ней неприметная, из ситцевого мелкотравья — мышиный горошек с вязелем, но зато юбка — из грубого волосяного тканья, о которое бабушка, походя, наводила блеск на всякой меди, — и впрямь первая на ней одежка: без определенных размеров, вся в вольных складках, готовых во всякий миг ринуться вправо ли, влево ли вокруг нее, и все это почти до пола, и если меня спросить, во что обувалась баба Варя, то я, пожалуй, не вспомню, потому что под этими складками, кажется, ни разу не видел ее обуви. Зато памятен ветер, который, сама будучи неказистой, ростом деду Алексею по грудную пуговицу, взвихривала своей юбкой, когда принималась домовничать, шастая бесшумно, словно витая от печи в сени, из сеней снова к печи с беремком лозовой поруби и опять за порог с переполненной лоханью, на погребицу за капустой или в горницу к лампаде за огоньком.
— А сороки — это чево?
— Это когда со всех деревень в урёму слетятся сорок сороков сорок да почнут гнезда ладить.
— А урёма — это чево?
— Лесная чащоба, которую весной половодьем заливает. Урёма, стало быть…
— Дак и чево?
— Ну, слетятся, почнут хлопотать свои хлопоты. Бывалая сорока — та прежний свой домок принимается прихорашивать, а которая впервой — той приходится новый заводить. Сорочье гнездо — не так себе, а затейливое. На него много надо палочек. Сорок прутиков — это токмо на донце, два раза по сорок — на застенки, да еще сорок — на кровлю, чтоб невзгода не досаждала. Сорочин палочки носит, а сорочиха их кладет, тот принесет — та положит, опять принесет — опять положит. Эдак с утра до вечера. Толечки заря наклюнется, а они уже за свое. И вот тебе затопорщится по болотным гривам, на недоступных деревах, в калиновой чаще сколь пар сорок, столь и птичьих починков.
— И чево?
— Как это — чево? Вылупятся сорочата, начнут на весь свет сорочить, есть просить — вот тебе и весна! Птичья забота.
— А кулики — чево?
— А кулики, знай себе, полетят. Каждый кулик со своей куличихой. В одну ночь сорок, да в другую сорок, да еще сорок. Сколь пар, столь надобно и кулижек. Пи-и-ти — пить! — эдак они с дороги просят. Издалека, поди, летели, уж намахались-то. Присядут на песочек, засунут в тинку сорок пар носов, напьются вдосталь и давай дудеть, выдувать пузыри: бу да бу, бу да бу! И оттого у них, у куликов, своя весна получается, свои хлопоты. А от птичьей весны и нам чего-нито перепадет — хлопот да веселья.
По бабушкиным счетам до сороков оставалось еще два дня, а мне хотелось, чтобы все деялось сразу, и потому время мне короталось в томлении, похожем на скрытое недомогание. Все эти дни дедушки Алексея не было дома, с ранним светом он уходил к мужикам на деревню смолить чью-то лодку, приходил потемну, от него дегтярно разило варом, а от усов пахло водкой и сырым головчатым луком. Он ершил мою сонную голову, цокал нескладным языком и шел спать на поостывшую печь.
Бабушка, опасаясь, что я непременно залезу в мокреть и замочу ноги, не выпускала меня за порог, и я, скучный, готовый реветь, весь остатный день обретался дома, отыскивая себе сколько-нибудь подходящие шкоды. Больше всего я торчал у окна, примечая вешние перемены. Бабушка ставила передо мной блюдце с зеленым конопляным маслом, посыпанным солью, возле клала ржаной ломоть — для моей занятости, а сама, набросив на плечи ватную одежку, в который уже раз шла кликать, заманивать в сени гусыню по прозвищу Матвевна, или просто Мотя, чтобы посадить ее на гнездо. Матвевна — серая, дородная, медлительная гусыня, вдруг засвоевольничала, не хотела вылезать из большой замоины перед избой и вместе с соседскими гусями в гомоне и перебранке истово макалась в набрякшую снежную кашу, наплескивала на себя воду изворотами шеи и, довольная, вскидывалась на пунцовых ногах, восторженно простирая крылья, как бы просушивая их на хватком весеннем сквозняке.
От кухонного окна я перебирался вместе с хлебом и блюдцем к окнам безлюдной горницы, где в сумеречном углу перед невнятно мерцавшими образами разновеликих икон ровно, без вздрагиваний и колебаний, процеженный и хранимый синим стеклом лампады, блекло мерещился голубоватый пламенёк, вызывавший у меня, непосвященного, трепетную робость и желание поскорее пройти мимо. И ничуть не переча этой смиренной горничной тишине и отрешенному свечению негасимо бдящего комелька, бойко, озабоченно маятили ходики, пересчитывая и распределяя секунды: «туда-зюда, туда-зюда…», металлически подскаргыкивая, вернее, подзюкивая на правом качке.
Эти ходики считались единовластной собственностью дедушки Алексея. Всем остальным раз и навсегда воспрещалось к ним прикасаться. Он единственный во всем доме и даже в деревенском роду имел право подтягивать гирю, запускать маятник, двигать стрелками, поверяя их верность ходом харьковского экспресса, ровно в полдень громыхавшего по гулкому чугунному мосту в трех верстах от деревни и полнившего заречный лес раскатистым ревом, многократ повторенным дубравным эхом.
Ходики были приобретены в самый расцвет нэпа на одной из многочисленных тогдашних ярмарок, ломившихся от изобилия еды и добра, и сами имели весьма веселый, «процветающий» вид, который придавала им лицевая цифирьная доска, окрашенная белой эмалью с разбросом по ней синих васильков.
Перед каким-либо большим праздником, когда бабушка Варя устраивала вселенскую стирку, выскребку горшков, чугунков, черепух и черепушек, кислым тестом обмазывала оба самовара — чайный и постирушный, а потом драила их шерстяной рукавичкой, дедушка Алексей тоже ввязывался в уборку: снимал с гвоздя свои ходики и шел с ними к горничному столу, всегда заправленному скатертью. Там он отдергивал ситцевую занавеску, чтобы было виднее, и, надев очки в тонкой проволочной оправе, каковые нашивал Добролюбов, и напустив на себя значимости и чина, принимался обстоятельно изучать часовой механизм, время от времени дотрагиваясь ногтем до какого-либо колесика или винтика, пробуя их на долговечность. Не найдя, что следовало бы исправить, дедушка доставал запрятанное на божнице специальное гусиное перышко, на котором оперенье в виде лопаточки было оставлено лишь на самом конце ости, макал им в пузырек с деревянным маслом и дотрагивался прозрачной капелькой до всех причинных мест в механизме, где происходило какое-либо верчение, качание или иная полезная работа.
— Ну, теперь будем ждать харьковца, — удовлетворенно говаривал дедушка, водворяя часы на прежний гвоздь.
Из двух горничных окошек виделась близкая река. Она грозно вздыбилась поднятым льдом с долгими зияющими разломами. Ледовое поле отделилось от берега сплошной черной полыньей, которая исподволь, день ото дня скрадывала береговую отлогость и уже подступила к нижним огородам, подтопила плетни, капустные гряды с торчащими кочерыгами, и было видно, как межгрядные тропы уходили прямо в темную глубину.
— Не сёдня завтра вода сорвет лед, — говорила бабушка. — Того гляди, попрет во дворы…
— И чево?
— А тово! На печи будем сидеть…
В горнице я не задерживался подолгу: быстро наскучивали пустынная затаенность реки, неуют протаявших берегов, и я опять возвращался на кухню, откуда по ту сторону затопленной излоги виднелось несколько деревенских дворов. Там всегда находилось что-либо живое. Вон в затишке у забора под надзором осанистого, в золоченых позументах петуха копошились куры, дружно, всей артелью выгребали что-то из-под куста, взмелькивая желтыми голенями. По тесовой крыше соседнего сарая, по самому ее гребню, поддерживая равновесие отвесно задранным распущенным хвостом, пробирался тетки Затеихи рыжий котище. Он воровато озирался, надолго замирал в неловкой позе, должно быть мня, будто его никто не видит, тогда как этот ворох огненной шерсти с белой помаркой на носу уже давно приметили все окрестные воробьи, и даже мне издалека было видно, что крадется к скворешне неисправимый пройдоха и плут. Сама же тетка Затеиха в тени сарая, на синем куске оставшегося снега, налегке, с оголенными до плеч руками, истово, будто провинившегося, колотила веником полосатый половичок. А у воды толпились пацаны, краснолице галдели, меряли заберегу шестами, пускали скачущие «блинцы»… И время от времени все летели и летели на ту сторону, в лесное заречье, взмелькивали белым, будто вспыхивали при каждом взмахе, долгохвостые сороки.