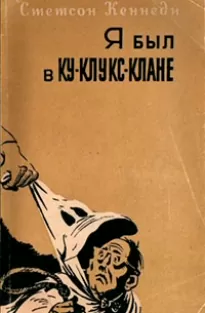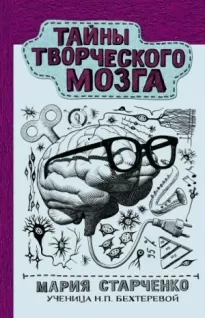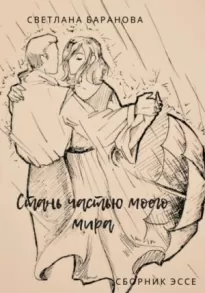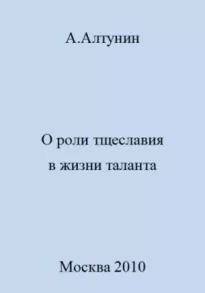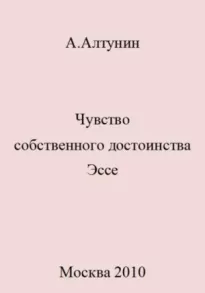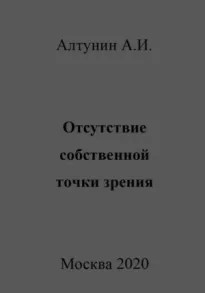От оргазма до бессмертия. Записки драг-дизайнера
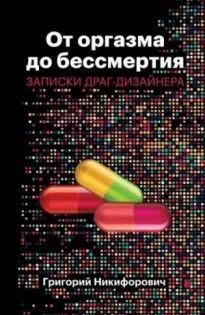
- Автор: Григорий Никифорович
- Жанр: Научная литература
- Дата выхода: 2019
Читать книгу "От оргазма до бессмертия. Записки драг-дизайнера"
Наука о жизни
Молодыми — даже юными — студентами-первокурсниками физфака мы восхищались физикой, наукой, которая была тогда в расцвете. Она покорила космос, расщепила атомное ядро и подбиралась к основам строения материи. «Только физика — соль, остальное все — ноль», — провозглашала наша студенческая песня, и мы радовались предстоящему приобщению к этой самой динамичной из наук. О том, что стремительное развитие физики подходит к концу, мы даже не подозревали. И почти ничего не знали об уже начавшейся к тому времени революции в биологии, которой суждено было определить направление научного прогресса на десятилетия вперед и в которой некоторым из нас посчастливилось принять участие.
Максима «Познай самого себя» приписывается древним грекам. Ясно, что в те времена в первую и единственную очередь имелось в виду осознание человеком себя самого как носителя определенной нравственной сущности. Люди мало задумывались о себе как о возможных объектах естествознания. Да и естествознанию было не по силам такое исследование: сохранилось одно из тогдашних определений понятия «человек» — двуногое существо без перьев с плоскими и широкими ногтями. Лишь много веков спустя началось постепенное понимание человека как организма, биологической единицы. И следовательно, объекта для изучения методами биологии — науки о живом.
Биология принципиально отличается от физики или химии тем, что ее главной чертой является... история. Правда, в биологии она называется особым термином «эволюционный процесс», но суть от этого не меняется. Действительно, для понимания устройства и действия дверного замка, телевизора или даже сверхсовременных компьютерных девайсов (велик и могуч все-таки русский язык!) вовсе не обязательно знать историю их создания. А вот понять самые элементарные способы организации работы живого организма без учета истории его происхождения попросту невозможно. Логика построения «механизмов» и «приборов», относящихся к живой природе, отличается от традиционной логики инженера или конструктора. Дело в том, что в них слишком много деталей вроде бы лишних, ненужных для конкретной функции, которую выполняет сегодня данный живой «механизм». Но не для той, которая была важна для него вчера и, возможно, будет важна завтра; а как раз сохранение «традиций» прошлого и борьба за выживание в неизбежно изменяющемся будущем и есть самая характерная черта живого.
Ибо все живое на Земле существует под постоянным давлением эволюционного процесса. В наследственной линии любого организма за века развития обязательно произойдут какие-нибудь изменения, которые послужат либо процветанию его потомков, либо ухудшению перспектив их дальнейшего существования. Происходит это потому, что некоторые изменения наследуются, передаются потомству и закрепляются — если, конечно, столкновение с окружающей средой позволит выжить организмам с такими изменениями. Так, скажем, приобретенная когда-то маскировочная окраска зайца — серая или белая — дала возможность этому симпатичному зверьку благополучно продержаться до наших дней. Между тем, если бы у кого-то из зайцев появлялась в прошлом ярко-красная или ультрамариновая шерстка, носители этого признака были бы немедленно выловлены разнообразными любителями зайчатины и не успели бы оставить цветное потомство. Что ж, за оригинальность приходится платить: вспомним о горестных судьбах белых ворон.
Процесс закрепления тех или иных изменений, передающихся по наследству, носит название естественного отбора. Теория естественного отбора была предложена великим натуралистом XIX века Чарлзом Дарвином на основе сопоставления огромного количества данных о различных организмах. Дарвин разработал также эволюционную концепцию происхождения биологических видов друг из друга — через сохранение признаков, отобранных внешними условиями.
Идея эта была встречена в штыки многими — ив первую очередь церковью, поскольку, как казалось, эволюционная теория может поставить под сомнение само существование Бога. В самом деле, официальная теология признает лишь пять доказательств бытия Божьего. Шестое доказательство, сконструированное Иммануилом Кантом, церковная наука отвергла (как правильно предупреждал философа за завтраком булгаковский Воланд: «Над вами смеяться будут»). Разобраться в этих теологических и философских доказательствах трудно; но есть еще один простой довод, очевидный для каждого. Легко заключить, что окружающая нас живая природа представляет собой настолько сложную систему, что сама ее сложность служит иллюстрацией или даже доказательством Божественного умысла. Ведь и вправду трудно поверить, чтобы все эти тычинки, пестики, когти, крылья, жабры и прочие тысячи органов растений и животных образовались, а главное, функционировали согласованно самопроизвольно, а не по точному плану, составленному Создателем.
Надо сказать, что сторонники креационизма (от английского creation — «создание») до сих пор активно борются с приверженцами эволюционной теории, причем иногда — с помощью государственной юридической системы. В начале двадцатых годов прошлого века в американском штате Теннесси был принят закон, запрещающий преподавать дарвинизм в школах, финансируемых штатом. Тамошние борцы за свободу слова (на эволюцию им было наплевать) уговорили учителя Джона Скоупса нарушить этот закон, а местного прокурора — подать на него в суд. Учитель был приговорен к штрафу в сто долларов, и суд над Скоупсом в городе Дейтоне в 1925-1926 годах стал всемирно известен как «обезьяний процесс». Впоследствии Верховный суд штата отменил приговор, придравшись к мелочи: штраф не был утвержден присяжными, а был назначен судьей, который не имел права назначать штрафы свыше пятидесяти долларов.
Самое смешное, впрочем, то, что Дарвин, будучи человеком глубоко верующим, никогда не утверждал, что биологические виды возникли сами по себе. Он говорил о переходах из одного вида в другой, но не о том, что (или Кто) был причиной их первоначального возникновения. Ведь, изучая природу, живую или неживую, наука не задает вопрос «почему» — она спрашивает лишь, «как это устроено».
Живая природа постоянно изменяется, и, по Дарвину, полезность каждого следующего изменения проверяется строжайшим контролем естественного отбора. Уже по одному лишь термину «отбор» можно предполагать, что процесс эволюции носит направленный характер, имеет какие-то заранее определенные цели. Однако это положение, к которому склонялись многие основатели эволюционной теории, до сих пор не удалось подтвердить: очень трудно определить признак, по которому один вид можно поставить выше другого на эволюционной лестнице. Человек — царь природы, потому что он обладает интеллектом, связанным с физиологическими функциями головного мозга; но мозг слона по весу, объему и площади своей коры далеко превосходит мозг человека. Самый успешно выживающий биологический вид должен вроде бы накопить наибольшее количество биомассы на единицу площади Земли; и такой вид есть — земляные черви. Наконец, возможность ядерной войны заставляет подумать о том, какой из знакомых нам организмов больше других устойчив к радиации: оказывается, это тараканы. А поскольку будущее непредсказуемо — по крайней мере для нас, не для Господа, — заранее неизвестно, какие свойства, приобретенные в ходе эволюции, будут особенно полезными в дальнейшем.
Случайный характер эволюции, в свою очередь, тесно связан с механизмом, за счет которого она осуществляется. Его детали стали известны сравнительно недавно, хотя первые догадки появились еще при жизни Дарвина и название новой науки — «генетика» — впервые прозвучало уже тогда. С возникновением этой науки тесно связано имя Грегора Менделя, которого наша родная советская печать сначала именовала «австрийским монахом-реакционером», а потом «чешским исследователем» (тоже пример своеобразной эволюции). В старинных стенах монастыря в городе Брно стоит скромный памятник Менделю, а рядом — заботливо восстанавливаемые грядки горошка. Именно при изучении этого растения никому не известный тогда монах открыл первые количественные законы наследования признаков от поколения к поколению. Затем немец Август Вейсман и американец Томас Морган обосновали представление об особом наследственном веществе, устойчивость которого на протяжении веков эволюции и дает возможность сохраниться тому или иному признаку. А вслед за ними в тридцатые-сороковые годы прошлого столетия генетикой всерьез занялись многие ученые во всем мире. В том числе и в СССР — до тех пор, пока в 1948 году сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) не разгромила отечественную генетику как идеологически вредную прихлебательницу закордонного «менделизма-вейсманизма-морганизма».
Кстати говоря, ближайший сотрудник Т. Моргана, один из основателей радиационной генетики Герман Мёллер, в тридцатые годы увлекся идеями социализма и переехал на работу в Советский Союз, где был избран членом-корреспондентом Академии наук. Он руководил лабораторией в Институте генетики до 1938 года, когда из-за угрозы возможного ареста ему пришлось покинуть СССР. В 1946 году Мёллер получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Сессия ВАСХНИЛ его потрясла — он направил Академии наук письмо с отказом от звания члена-корреспондента и был его немедленно лишен. Восстановлен в этом почетном звании он был лишь в 1990 году — через двадцать три года после кончины.
Современный вид эволюционная теория приобрела в пятидесятые годы, когда «наследственное вещество» Вейсмана и Моргана удалось не только точно определить химически, но и «увидеть» с помощью рентгеноструктурного анализа, позволяющего различить положения отдельных атомов в молекуле. Этим веществом оказались нуклеиновые кислоты — химические соединения, представляющие собой длиннейшие полимерные цепочки, составленные из мономерных единиц, которые называются нуклеотидами. Впрочем, о них не раз будет говориться в дальнейшем.
А пока буквально в нескольких словах и весьма приблизительно очертим сегодняшнее понимание элементарного шага эволюционного процесса: по каким-то причинам происходит точечная мутация, то есть замена одного нуклеотида другим. В результате изменяются другие молекулы, например белки, которые непрерывно синтезируются в организме. Из-за этого те или иные функции организма претерпевают изменения, которые либо идут на пользу организму и его потомкам, либо приводят к их гибели.
Еще раз подчеркнем случайность мутаций. Замены нуклеотидов в цепи или их повреждения могут быть связаны с внешними причинами — например, с воздействием некоторых химических веществ или значительных доз радиации, однако могут возникнуть и как бы самопроизвольно, поскольку основания для этого нам пока неизвестны. Но, конечно, далеко не всякая мутация влечет за собой эволюционные последствия: в подавляющем большинстве они нейтральны.
В наши дни описание эволюционного процесса — основы основ биологии — проводится почти исключительно на молекулярном уровне. Это означает, что если раньше вопрос о месте организма в эволюционном ряду решался благодаря сопоставлению, например, особенностей скелета, то теперь та же информация может быть получена при изучении химического строения молекул белков разных организмов. И, надо отметить, оба подхода действительно дают весьма сходные результаты. Иными словами, современная биология невозможна без биологии молекулярной.