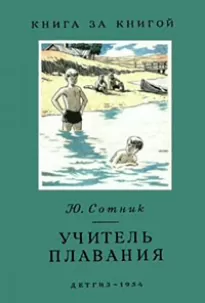Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после
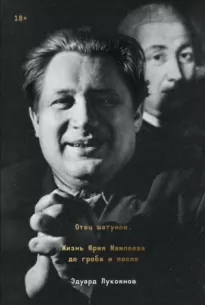
- Автор: Эдуард Лукоянов
- Жанр: Критика / Литературоведение / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после"
* * *
«В рассказах Ю. Мамлеева дети живут в ином онтологическом измерении, нежели взрослые. Они – существа другой природы, обладающие бесконечной метафизической мощью»[74]. При желании детские образы в мамлеевской прозе можно толковать и так. В самом деле, довольно очевидно, что в мистической системе Юрия Витальевича ребенок – это тот, кто ближе к небытию, в котором он еще недавно не существовал, чем взрослый человек. Это позволяет «младенцу» трех с половиной лет Никифору из рассказа «Прыжок в гроб» (1997) единственному адекватно контактировать со старухой Екатериной Петровной, которая никак не может умереть.
В большом количестве в прозе Мамлеева присутствуют и характерные девочки: полувоздушные, нездешние существа, служащие проводницами между миром живых и миром мертвых. Такова, например, тринадцатилетняя Наташа, внезапно возникающая в финале рассказа «Дикая история» (1997), чтобы поцеловать отрезанную трамваем голову монстра Андрея Павловича Куренкова:
То ли задумался Андрюшенька о чем-то, может быть, о судьбе, то ли просто замешкался, но сшибло его трамваем и отрезало голову. Оцепенели все видевшие, а бабы завизжали. Среди видевших была и девочка Наташа. Вдруг перебежала она улицу, наклонилась над головой монстра и приподняла ее. Голова вся в крови и пыли, пол-уха слоновьего тоже как не было, но глаза будто открыты. Наташа наклонилась и с нежностью поцеловала эту голову три раза, как будто прощалась.
– Прощай, прощай, Андрюша, – как бы невидимо сказала она ему. Приподнялась – все детское личико в крови перепачкано, а в глазах слезы.
Такова вот оказалась свадьба у Андрюшеньки.
Люди подошли к Наташе.
– Ты кто такая? Ты его дочка?! – кричат на нее в полубезумии.
– Никакая я не дочка, – спокойно ответила Наташа, и голубые глаза ее засветились. – Просто я его люблю.
– Как любишь?!
– А я вас всех люблю, всех, всех, и Никитича из нашей коммунальной квартиры, и Ведьму Петровну.
А потом посмотрела на людей грустно и тихо добавила:
– И даже чертей люблю немного. Они ведь тоже творения…
Голова монстра валялась в пыли у ее детских ног, а далеко вдали уже раздавался свисток милиционера[75].
Генеалогию «мамлеевских девочек» литературовед Роза Семыкина возводит к «Сну смешного человека» Достоевского, в котором встреча с девочкой «лет восьми, в платочке и в одном платьишке» предотвращает самоубийство главного героя. Позволю себе напомнить, как она была изображена у Федора Михайловича:
Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня[76].
Доппельгангеры, злые (а скорее имморальные) двойники этой девочки не раз возникают здесь и там у Мамлеева. Наиболее яркое из подобных появлений – маленький рассказ «Простой человек», герой которого совершает самоубийство после того, как увидел выходящую из леса «девочку лет четырнадцати»:
Она была избита, под глазом синяк, немного крови, нога волочилась. Может быть, ее изнасиловали (а такое случается везде) или избили. Но она не испугалась меня – здоровенного мужчину лет сорока, одного посреди леса. Быстро посмотрев в мою сторону, подошла поближе. И заглянула мне в глаза. Это был взгляд, от которого мое сердце замерло и словно превратилось в комок бесконечной любви, отчаяния и… отрешенности. Она простила меня этим взглядом. Простила за все, что есть бездонно-мерзкого в человеке, за все зло, и ад, и за ее кровь, и эти побои. Она ничего не сказала. И пошла дальше тропинкой, уходящей к горизонту. Она была словно воскресшая Русь[77].
И все же куда заметнее не этот умильно-«метафизический» флер, а то, что, по замечанию довольно одиозного православного литературоведа Михаила Михайловича Дунаева, «дети у Мамлеева показаны всегда с несомненной неприязнью»[78]. Правда, в подтверждение своих категоричных слов он приводит лишь один пример из рассказа «Серые дни»:
В сумасшедшем, деревянном чреве дома живут еще дети. Все они садисты и до безумия злы. Кажется, если бы не их относительная рахитическая слабость, то они разнесли бы дом, двор, улицу, и если бы могли, весь мир. Но они не могут даже выбить все стекла в своем дворе[79].
Итак, мы видим две противоположные интерпретации того, что старорежимные литературоведы назвали бы «мотивом детства в творчестве Ю. В. Мамлеева». Одна из них гласит, что дети в прозе Юрия Витальевича – метафизические сущности, носители святости в мире повседневного ада. Другая же заключается в том, что человеконенавистничество Мамлеева закономерно распространилось и на ребенка как на наиболее неконвенциональный объект мизантропии. Михаил Михайлович склонен объяснять это общим «безбожием» самого Юрия Витальевича и его персонажей.
Если из двух этих интерпретаций нужно будет выбрать ту, которая мне кажется более справедливой, я предпочту этого не делать. И вот почему.
Редкий писатель так способствует интеллектуальной разнузданности и литературоведческой нечистоплотности, как Мамлеев. Порой это приводит к совершенно трагикомическим опытам. Так, несколько лет назад один чрезмерно усердный толкователь Мамлеева обнаружил, что рассказ «Счастье», о котором мы уже говорили в предыдущей главе, представляет собой не что иное, как отображение «хайдеггеровской системы философствования»: косный здоровяк с кружкой пива при таком прочтении оказывается не каким-то Михаилом из подмосковной деревни Блюднево, а «Das man-Михайло»[80]. Поскольку мамлеевская проза навязчиво заявляет о своей философской сути, она становится привлекательной ловушкой для исследователей, склонных к герменевтическим упражнениям.
Между тем, как Мамлеева читает Роза Семыкина (ее статьи и книги заслужили высочайшую похвалу Юрия Витальевича, поскольку они ему совершенно бесстыдно льстили), и тем, как его же читает Михаил Дунаев, по сути, нет принципиальной разницы. Одна исследовательница ищет у него бесспорное развитие литературно-философских традиций Достоевского и с удовольствием находит, вынося далеко за скобки все, что не соответствует этой линии; другой же фокусируется на мамлеевской оптике как подчеркнуто антиправославной, безбожной, порожденной постмодернистской тягой к амбивалентности – и тоже получает то, чего хотел.
Вот только все эти упражнения в интерпретации ничуть не приближают нас к пониманию текстов Мамлеева. Напротив, скорее из-за них читатель безнадежно застревает в области эстетической и моральной вкусовщины. Дело в том, что в действительности мамлеевская проза не подчиняется тем законам, по которым организована «большая» литература, знакомая нам со школьной скамьи. В книгах Мамлеева нет второго, третьего, десятого слоя, в них бесполезно искать скрытый смысл. В мамлеевском тексте все абсолютно буквально и самоценно, и все в нем требует соответствующего отношения: если нерожденному ребенку пробили голову членом, это значит, что нерожденному ребенку пробили голову членом; если у смертного одра старухи стоит младенец трех с половиной лет, то это значит лишь то, что кто-то, появившись на свет и прожив три с половиной года, по-прежнему остается младенцем. Таковы правила самодостаточной реальности, сконструированной Мамлеевым. Если традиционные литературные забавы вроде аллюзий в ней и возникают, то они настолько прямолинейны, что перестают быть аллюзиями: читатель, обладающий минимальным культурным багажом, удивится разве что тому, насколько беззастенчиво и потому чрезвычайно забавно присваивает базовые коды русской классики Юрий Витальевич.
При таком прочтении мамлеевские детки оказываются монстрами и жертвами монстров в той же степени, что и остальные участники этой метафизической мистерии, будь то люди, животные или мертвецы. Они – равноправные подданные большого паноптикума, в котором все бесконечно ест, убивает и философствует. Единственное их качественное отличие, вероятно, заключается лишь в том, что доверчивый читатель чуть болезненнее реагирует на трансгрессивные сцены с участием детей. Выше я упомянул нечаянное убийство ребенка, головку которого проткнул член Павла Краснорукова, совокуплявшегося с беременной Лидочкой. На этой гротескной сценке из третьей главы «Шатунов» знакомство многих читателей и читательниц с наследием Мамлеева часто завершается – при всей нелепости и даже невозможности описываемого автором подобное воспринимается как циничное нарушение табу на изображение (или просто упоминание) детской смертности, которая к тому же помещена здесь в агрессивно-сексуальный контекст. Ну а если составлять рейтинг пассажей из Мамлеева, воспринимаемых как самые «отвратительные», то верхнюю строчку в нем займет, пожалуй, описание дорожного происшествия из рассказа «Жених» (1964):
Лето было жаркое, и он ехал на непомерно большом, точно разваливающийся дом, грузовике в одной майке и трусиках. Ваня думал о том, как он купит себе новые штаны.
Услышав что-то неладное, вроде писка мыши сквозь грохот мотора, он резко притормозил и, с папиросой в зубах, выглянул из кабины.
Дите уже представляло собой ком жижи, как будто на дороге испражнилась большая, но невидимо-необычная лошадь[81].
Нехитрость и вместе с тем ловкость трюка, который демонстрирует Мамлеев, заключается в эмоциональной подмене: нас шокирует не факт гибели ребенка, но сравнение его с лошадиным дерьмом. (Любопытно, что в попытке экранизации «Жениха», предпринятой в 2019 году режиссером Лоренсом Энрикесом, возраст жертвы существенно увеличен, а ее труп – эффект Кулешова – сравнивается с ложкой ягодного джема, и в результате получается полная противоположность образу из литературного первоисточника.) Ребенок и детство как феномены, имеющие чрезвычайную социальную значимость, выполняют у Мамлеева сугубо утилитарную функцию – выбить почву из-под ног «обывателя» и заставить его усомниться в том, справедливо ли считаются незыблемыми те ценности, что определяют его картину мира. Собственно, этот моральный шок и принимается многими за некие мистические откровения, на которые якобы богата мамлеевская проза. Если совсем радикальничать, то можно заявить: художественная ценность прозы Мамлеева заключается в возможности понаблюдать за работой уличного гипнотизера, который вводит жертву в транс и при этом поясняет зевакам, какие именно приемы применяются им в тот или иной момент. О том, какое гипнотическое воздействие оказывали на слушателей рассказы Мамлеева, мы еще поговорим, а пока вернемся к его безобразным деткам.