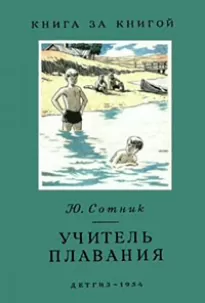Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после
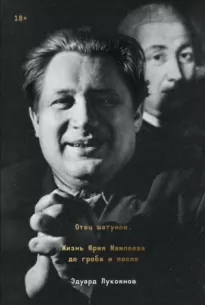
- Автор: Эдуард Лукоянов
- Жанр: Критика / Литературоведение / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после"
* * *
С Игорем Ильичом мы встречаемся в его квартире неподалеку от Даниловского рынка. Стены заполнены картинами явно мистического толка и самых невероятных красок. Здесь же – несколько православных икон, на полу разбросаны детские безделушки, куклы, фантики, наклейки (у Игоря Ильича маленькая дочь София), а на комоде лежит толстая тетрадь, густо исписанная телефонными номерами. Ее «последний тусовщик оттепели», как прозвал Дудинского канал «Культура», время от времени берет в большие ладони и с явным удовольствием перелистывает страницы, указывая, какие номера должны появиться и в моей телефонной книжке.
В жизни голос у него удивительный: говорит он будто тихо и хрипло, но при этом совершенно стройно и отчетливо.
– Смотрю, интересуется сейчас молодежь Мамлеевым, – начинает Игорь Ильич.
– Как думаете почему?
– Мир-то в тупик зашел материалистический, – с ходу отвечает Дудинский. – Хочется чего-то идеалистического, мистического, анархического. Но я все равно не могу понять, что ваше поколение видит в Мамлееве. Ваш психотип совсем другой. Тип, описанный в «Московском гамбите», – это одержимые люди, которые жили идеей потустороннего. Тот свет для них был выше, чем этот свет. Они мерили все тем светом, своими фантазиями, своим бредом, а на этот свет смотрели как на нечто вторичное. А сейчас у людей, мне кажется, оборваны все нити, связывавшие их с романтическим миром, в котором купался Серебряный век. Но молодые видят в Мамлееве что-то мистическое…
– Сатанизм, – естественно, вырвалось у меня.
– На Южинском очень не любили слово «сатанизм». Во-первых, там был Генмих, Геннадий Михайлович Шиманов, абсолютно православный ортодокс, до фанатизма преданный церкви – до того, что даже пеленки ребенку-младенцу только в святой воде стирал. Эти люди были экстатичные романтики, каждую идею доводили до конца, до абсурда.
Игорь Ильич на секунду задумался. Он сидит за большим белым столом и то ли от скуки, то ли стараясь сосредоточиться, что-то непрерывно чертит на листке бумаги. Впрочем, сразу продолжает:
– Вообще, не знаю, как ты собираешься писать биографию Мамлеева. Он же сам про себя повторял: «Я многолик, я многолик». И он действительно был многоликим. С одной стороны, он был полностью открыт, до последнего нерва – что хочешь с ним делай. С другой стороны, он считал себя человеком тайны и говорил, что он еще в каком-то ордене состоит, кроме Южинского. Борису Козлову он рассказывал, что перед отъездом давал какие-то подписки, но связанные не с органами, а с потусторонними делами. А ты читал Джемаля книжку «Сады и пустоши»? Где он рассказывает про Унибрагилью и ее концентры?
Дудинский смеется, довольно слышно постукивая зубами, а я пока процитирую этот действительно забавный эпизод из мемуаров Джемаля, о котором вспомнил Игорь Ильич. Гейдар Джахидович излагает этот случай так:
Мамлеев как-то пришел ко мне встревоженный, торжественный и внутренне притихший, и сказал, обращаясь ко мне, как всегда он делал в нашей среде:
– Дарюша, вы слышали что-нибудь об Унибрагилье?
Я посмотрел на него и сделал вид, что жду продолжения.
Он сказал:
– Да, Унибрагилья и ее концентры.
Естественно, я слышал это в первый раз, но что-то толкнуло меня, и я сказал:
– Да, Юрий Витальевич, наконец-то вы вышли на тот уровень, на котором я могу с вами говорить. Я знаю про Унибрагилью и ее концентры.
Он затрясся и спросил:
– Что? Что вы знаете?
<…>
– Это особая тема, но я вам могу сказать. Концентры Унибрагильи покрывают всю реальность, но эти концентры связаны с тем, что находится вне их, за их пределами. Представьте себе, что в центре есть некая точка. Точка в центре бесконечности. В этой бесконечности, естественно, нет никакого центра, ни ориентира, ничего, чтобы это как-то дефинировало. В любой точке вы находитесь здесь. Но любая точка равна другой. И вот вы внезапно ставите решительную, реальную точку и протыкаете этот лист бумаги. У вас появляется центр.
В этом центре бесконечность кончается. Вы ограничиваете ее этой точкой. И тем самым в этой точке концентрируется весь потенциал той протяженности, идущий вокруг нее концентрами, все схвачено. Есть 12 концентров вокруг этой точки, они полностью исчерпывают весь потенциал этой бесконечности. Но важен только 13-й концентр, невидимый концентр, находящийся вне этой протяженности. Вы не уязвили эту протяженность, поставив точку. Лист бумаги, который был абсолютно незапятнан, гладок, бесконечен, а вы поставили точку и пробили этот лист бумаги, вы овладели им. Но 13-й концентр – это то, что не ранено этим центром, то, что находилось за пределами этого. И он тем самым тайным образом вступил в связь с этими концентрами. Это обращение, это апелляция к тому, чего в этом листе бумаги не было и быть не может.
Юрий Витальевич меня внимательно выслушал и сказал:
– Да, я знал. Я знал, что это именно так, именно в эту сторону. Это именно сюда должно быть. Речь идет о том, что по ту сторону Абсолюта, за пределами Абсолюта, вне его. <…>
В этот момент Юрий Витальевич стал абсолютным адептом Унибрагильи, для него все стало на свои места[101].
– …и вот так Мамлеев один принадлежал к учению об Унибрагилье, – продолжает Дудинский. – Мы тогда иронизировали над этой темой. Но, в принципе, вполне может, что так все и было. По крайней мере, в КГБ его очень любили, считали мощным человеком. В шестидесятые в КГБ было много мистиков, которые пытались исследовать иные миры.
Тут Игорь Ильич вновь смеется, вроде бы давая понять, что шутит. Но, разумеется, лишь с известной долей шутки. К слову, сам Мамлеев в одном из интервью на прямой вопрос об отношениях с госорганами ответил скупо, но весьма доходчиво: «Мои произведения все знали… там не было никакой политики, поэтому не было претензий по поводу политики, и я просто был зачислен в список нежелательных писателей»[102]. И далее: «Мы хотели остаться в Советском Союзе и передать мои вещи, но дело в том, что тогда вышел закон, что передача любых произведений на Запад помимо официального пути – это уголовное преступление. И у нас не было иного пути: или в лагерь, или на Запад. Или сжечь все свои произведения».
– Гэбэшники делали вид, что хотели его спасти, – рассказывает Игорь Ильич. – Но советская власть потрясала тем, что ее система была выше даже тех людей, которые делали эту систему. Допустим, сидит в органах самый главный идеолог, который любит Мамлеева, но ничего не может поделать, потому что присутствие Мамлеева в этой системе координат неуместно. Он не вписывается в эту систему. Но не потому, что делает что-то плохое. Почему так долго не признавали, например, абстракционистов? Они же никакого вреда не приносили. И вроде придраться не к чему, но лучше их не афишировать и даже изолировать. И такие люди из органов очень многих отправили «туда», чтобы спасти и дать им развиваться, исключив из этой системы. Такой вот маразм.
Слова Дудинского об отношениях Мамлеева с чекистами меня не шокируют – скорее меня шокирует то, с каким спокойствием он предъявляет, в общем-то, тяжкие обвинения, даже не моргнув водянистыми глазами. Именно это спокойствие на секунду убеждает меня в том, что Игорь Ильич в данном случае говорит чистую правду и, более того, не видит ничего предосудительного в сношениях главного «неконформиста» Москвы с гражданами в погонах. С другой стороны, я далеко не первый, кому Дудинский рассказывает о доброжелательном отношении КГБ к Мамлееву[103]. Но нет ли в этом пресловутого южинско-мамлеевского мифотворчества – маниакального желания объявить себя причастным к некоему высшему и чрезвычайно тайному знанию, к Унибрагилье и ее концентрам? Обсуждая с разными людьми тех же «Шатунов», я неизбежно приходил к тому, что мои собеседники задавались вопросом: почему этим не интересовался КГБ? Сейчас у меня, кажется, есть ответ. Звучит он приблизительно так: Комитет государственной безопасности не интересовался Мамлеевым, потому что Мамлеев не представлял интереса для Комитета государственной безопасности. Ну да ладно, давайте пока вернемся в квартирку Дудинского.
– На Южинский я пришел в шестьдесят третьем или шестьдесят четвертом, – возобновляет свой рассказ Игорь Ильич. – Он существовал и до меня, но я тогда находился в кругу, где о Южинском ничего не знали. Мой учитель Леонид Талочкин знал лианозовцев: Игоря Холина, Генриха Сапгира. Он привел меня к Боре Козлову. Это было супер – настоящий салон, где собирались все лучшие люди. В один день я там сразу познакомился с художником Анатолием Зверевым, Александром Харитоновым – там человек двадцать сидело, один гений на другом: Володя Буковский, смогисты, Леонид Губанов. После этого я в школу больше не ходил – запил. О Мамлееве там пока не знали. Впервые я это имя услышал, кажется, от смогиста Владимира Батшева. Он сказал: «Знаешь, есть такой Мамлеев? Такие рассказы читает – ты умрешь!» И Талочкин мне потом говорит: «Есть один человек, его называют советским Кафкой».
Но здесь мне вновь не терпится перебить Игоря Ильича, чтобы дать слово Мамлееву. По его словам, сравнением с Кафкой он обязан художнику Борису Свешникову. Юрий Витальевич от таких аналогий был далеко не в восторге:
Сравнение с Кафкой я сразу признал несостоятельным, поскольку хотя мне и нравился этот писатель, но я считал его весьма односторонним, потому что его вещи отличала абсолютная безысходность; такой безысходности я вообще никогда и ни у кого не встречал. На мой взгляд, это весьма односторонняя, субъективная интерпретация мира. В моих произведениях, например, никакой безысходности нет. В них присутствует фантастический мир (земной мир можно признать фантастическим), потому что жизнь в Кали-Юге, в эпохе падения, по сравнению с другими мирами, где нет вообще никакого зла, кажется фантастической. Мы этого не осознаём, но на самом деле жизнь, которую мы ведем, – это фантастическая жизнь; такое, как у нас, редко бывает во вселенной. Я не беру ад, конечно.
Итак, сравнение с Кафкой я отверг[104].
В статье «Кафка и ситуация современного мира» (1983) Мамлеев еще более четко проговаривает свое неприятие тревожного австрийского абсурдиста, и это неприятие не самого автора «Процесса» и «Превращения», а той модели мировосприятия, которую он так убедительно описал:
[Чтобы понять трагедию Кафки], проведем аналогию с Платоновой пещерой (как известно, пещера у Платона символизировала наш физический мир, где живут люди, а возникающие тени у пещеры – проекция высших сверхчувственных миров: «боги – призраки у тьмы», как писал гениальный Хлебников). <…> Дело в том, что в «наше» время, то есть в современную эпоху, «тени» у пещеры давно превратились для нас или в монстров, или (что гораздо чаще) – исчезли вообще. Иными словами, почти полностью утрачена связь с окружающей физический мир сверхчувственной реальностью; наступил век тотального агностицизма, и человек оказался не в состоянии понять (и увидеть) хотя бы тень того, что находится за пределами физического мира. При этом, разумеется, некоторые современные люди интуитивно продолжали чувствовать, что этот мир – не единственный и что за пределами наших ограниченных ощущений, за сценой этого мира, стоят более тонкие стихии и смыслы, воздействие которых все-таки ощутимо и даже неотвратимо. Но так как «тени» тех миров, точнее, их смысл был уже утерян – естественно, сама жизнь в пещере (то есть физическом мире) стала ощущаться как абсурд, и характер воздействия сил за сценой стал совершенно непонятен. Таким образом, говоря более просто, ситуация героев Кафки – это фактически ситуация духовного тупика XX века с его торжеством агностицизма и атеизма, то есть с признанием бессилия человека понять высшие миры[105].