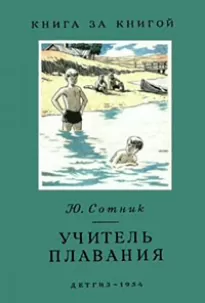Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после
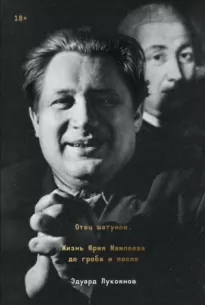
- Автор: Эдуард Лукоянов
- Жанр: Критика / Литературоведение / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после"
Напрашивается вопрос: если Владимир Пятницкий создавал художественные продолжения мамлеевских литературных опытов, то почему он был постфактум будто бы вычеркнут Юрием Витальевичем из пантеона метафизических реалистов? Полагаю, одной ревностью к Ларисе Пятницкой, которая была «как бы женой»[191] Владимира, этот жест все-таки не исчерпывается. Поздний Мамлеев с легкостью вычеркивает из своей биографии прежде близких людей по двум причинам: либо из-за личного разлада в отношениях, либо из-за того, что они не вписываются в пересобранный после эмиграции большой мамлеевский миф. Владимир Пятницкий в этот миф никак не вписывался.
Пятницкий был феноменальным неудачником – знакомясь с его биографией, невольно задумаешься о том, что на нем лежало какое-то тяжелое проклятье. Талантливый и чрезвычайно трудолюбивый рисовальщик, он постоянно существовал в режиме крайней нищеты, пугающей даже по меркам советской послевоенной действительности: жил то в каких-то подвалах, то в арендованной избе и даже зимой ходил без верхней одежды[192]. И после выпуска из Московского полиграфического института, который он окончил с отличием, Пятницкий не мог найти постоянную работу: обожаемый всеми знакомыми ценителями искусства, он перебивался гонорарами за мелкие иллюстрации для периодики; «в „Худлите“ заказали [иллюстрации для] „Кентавра“ Апдайка – большая честь, но после бесконечных мучений и переделок пошла только обложка»[193]. Многие советовали ему заниматься всегда востребованной абстрактной живописью, но он решительно протестовал, развивая собственный стиль, в котором все же ясно чувствуется влияние Гойи, Шагала, Пикассо: действие большинства его значимых полотен разворачивается в московских дворах и на задворках, населенных разнообразными монстрами и пьяницами, буквально утрачивающими человеческий облик.
Общая жизненная неустроенность Пятницкого усиливалась деструктивным поведением, тягой к саморазрушению и специфическим фатализмом, больше напоминающим безразличие к своей судьбе. «С идеей самоубийства он баловался всю жизнь, она была у него на кончике языка, – свидетельствует Надежда Доброхотова-Майкова. – Однажды мы сочиняли рассказ по кругу, втроем или вчетвером – модное было развлечение, кто-то произносит первую фразу, второй – следующую, без всякой связи, и так далее. Иногда получалось смешно, или казалось. Так вот, Володя должен был начинать, и он произнес: „Самоубийство мне, во всяком случае, не помешает…“»[194]
Это подтверждает Михаил Гробман, многолетний приятель Пятницкого, всячески продвигавший творчество товарища в мире нонконформистского искусства. В дневнике Гробмана за 22 июля 1967 года (Пятницкому на тот момент нет и тридцати) обнаруживаем такое горькое наблюдение:
Встретил на улице Володю Пятницкого, он с девицей и еще парнем шли в поисках „дури“, т. е. гашиша. Володька грязен и небрит. Я говорил с ним о том, что он опустился и что надо покончить с таким существованием, но он настроен очень пессимистически и скептически. Но все же хочет снять комнату и поработать, т. е. порисовать[195].
Регулярно употреблять наркотики (помимо само собой разумеющегося алкоголя) Пятницкий начал не позднее весны 1966 года[196] и не переставал до своей гибели в 1977-м. Опыты художника в этом направлении не ограничивались курением гашиша, особенный интерес он проявлял к употреблению (в том числе инъекционному) различных токсичных веществ, включая промышленные растворители вроде ацетона. Но в поздней мамлеевской интерпретации Южинского кружка ему не находится места даже не из-за этого, а из-за того, что «он был художником совершенно психоделического плана, он мог работать только под воздействием наркотика или алкоголя»[197]. Основной инструмент, с которым работал психоделизированный Пятницкий, – хаос; легко поверить, что он действительно писал в измененном состоянии сознания, и совершенно точно полотна его носят характер импровизации – фигуры, изображенные на них, постоянно наползают друг на друга, а порой даже написаны в совершенно разных манерах в пределах одного холста: «то ясный и простой профиль русского молодца, то скопище монстров в нерешительности митинга, то группа парней с глупыми до гениальности мордами, в которых, однако, чувствуется некая осовелая нездешность»[198]. «Художника В. Пятницкого, умершего в 1978 году от over-dose, можно считать воплощением (на русской почве) самодеструктивных тенденций в духе beat generation (Керуак и другие). Сонмы коммунальных уродцев, населяющих его сюрреально-абсурдистские фантазии, подчинены психоделической логике, которая не чужда и героям рассказов подпольного писателя Ю. Мамлеева», – резюмирует историк культуры Виктор Тупицын[199].
Сам Мамлеев, впрочем, многократно и со всей настойчивостью утверждал, что психоактивные вещества никак не могут способствовать проникновению художника в иные материи, а лишь мешают этому (есть многочисленные свидетельства того, что Юрий Витальевич лукавит, а на фотографиях времен работы над «Шатунами» его попросту не узнать: «Отекшее от пьянства лицо, бессмысленные глаза, взгляд в никуда. Не в мистическом смысле, а просто в никуда»[200]). Естественно, Владимир Пятницкий, в итоге погибший от передозировки химическими веществами, введенными внутривенно (есть альтернативная версия о неудачной попытке опохмелиться ацетоном[201]), не вписывался в миф о Южинском кружке как собрании мистиков высшей степени посвящения, где «ни наркотиков, ни оргий, ни эротических приключений не было», а «была любовь, поскольку все были молоды»[202].
Если б не «Веселые ребята», для широкой аудитории Пятницкий был бы утрачен безвозвратно, оставаясь сугубо в сфере интересов исследователей и коллекционеров неофициального искусства 1960–1970-х годов да особенно внимательных слушателей Дугова, запомнивших со слов своего пастыря «Девочку, читающую Мамлеева». Даже могила Пятницкого на данный момент считается утраченной: по документам он вроде бы должен покоиться на двадцать пятом участке Долгопрудненского кладбища, однако могила его, без креста и надгробия, судя по всему, безвозвратно затерялась среди сотен таких же – поросших бурьяном на подмосковном погосте.
Куда больше повезло другому художнику, постоянно заходившему в Южинский переулок, чтобы запечатлеть мамлеевский мирок в рисунках и стихах:
И вот в один из тех сумбурных дней
Мы очутились в логове Мамлея.
Здесь опишу я, красок не жалея,
Тот странный восковых фигур музей,
Где собирались, чтоб развеселиться,
Угрюмые шизоиды столицы.
Жил в переулке Южинском Мамлей.
Соседей ненавидящие взгляды
Впивались, точно пули из засады,
И прошмыгнуть хотелось поскорей
Туда, откуда в гулкость коридора
Неслось глухое завыванье хора[203].
От Владимира Абрамовича Ковенацкого Мамлеев никогда не открещивался, вспоминал о нем с теплом и даже написал небольшое предисловие к посмертному собранию его стихов и графики, в котором, впрочем, описал скорее себя самого, чем давно умершего друга:
Что же искал он в этом падшем мире? Я не имею в виду его сложные философские искания, но в его творчестве, прежде всего в поэзии, отразилось то, что он желал для себя, к чему стремилась его душа. На мой взгляд, он искал уюта, даже метафизического уюта – уголка, в котором можно было бы отдохнуть, очнуться от «бредограда» современного мира[204].
Не буду скрывать: из всех южинских Владимир Ковенацкий мне наиболее симпатичен. Все его вещи, даже самые чернушно-уморительные вроде ушедшего в народ «Боя топорами», носят ясный отпечаток искренней и какой-то выстраданной печали, возносящей его высоко над метафизическим самолюбованием, которым так часто грешит южинское культурное наследие и из которого возникает его пресловутая инфернальщина. Вероятно, такое отношение возникает на расстоянии, потому что, например, Гейдар Джемаль не проводил различий между Владимиром Ковенацким и его тезкой Пятницким, обоих называя художниками, своим творчеством передающими знание о том, что «метафизическое зло является питательной средой сверхдуховности»[205].
Жизнь Ковенацкого начиналась относительно благополучно по меркам эпохи, хотя он и не был выходцем из привилегированной семьи, как Дудинский или Джемаль: родился в 1938 году в Харькове в семье сотрудника недавно созданной ГАИ, детство провел в Перми, а затем в московском пролетарском районе Лихоборы, тоскливый антураж которого потом не раз возникнет в его стихах, прозе, картинах и рисунках. В одиннадцать лет поступил в лицей при Суриковском институте (был отчислен за хулиганство, но не особо переживал по этому поводу), а затем – и в саму Суриковку, причем без экзаменов, а под поручительство лучших официальных графиков того времени, включая Кукрыниксов, которые увидели в его иллюстрациях, напечатанных в журнале «Юность», руку, что называется, не по годам зрелого художника. По воспоминаниям сестры Ковенацкого Ноны Григорьевой, в то время (последние годы 1950-х) он был «вполне советский человек»[206]: оформлял стенгазеты, писал стихи в честь юбилея ВЛКСМ.
Все изменилось, когда ему досталась в наследство комната в коммуналке. Ее он тут же переоборудовал в мастерскую, постоянными гостями которой стали самые разные персонажи – от молодого Юрия Мамлеева до каких-то откровенных проходимцев. На одной частой гостье Ковенацкий вскоре женился, поначалу не подозревая, что «основным достоинством Володи в глазах молодой жены было наличие у него комнаты»[207]. Брак продлился немногим больше года – после него у Ковенацкого появился ребенок, но сам он остался без жилья.
Полагаю, из-за такого поворота событий Ковенацкий, от рождения склонный к меланхолии, окончательно провалился в творчество и околобогемные искания. «Владимир Ковенацкий был полностью наш <…>, – вспоминает Мамлеев. – Но в его глазах почти постоянно стояли слезы. Очень часто. Это были незримые, внутренние слезы, иными словами, он был слишком чувствительным, чтобы жить в XX веке. Тем не менее художник и поэт крайне удачно соединились в нем; и его стихи, и его картины говорят об одном: мы все на земле живем в сюрреальном, полубредовом мире, в котором пребывать интересно, загадочно, но весьма опасно. И не дай Бог лучший мир, в который мы все уйдем рано или поздно, будет похож на этот»[208].
Поэт Генрих Сапгир идет дальше, давая такую нелестную для Юрия Витальевича характеристику творчеству Ковенацкого: «В отличие от Мамлеева Володя изображал в своих рисунках и стихах реальный жуткий мир и делал это с большой убедительностью»[209]. А критик Игорь Шевелев и вовсе утверждает: «„Надо мной цветет природа. / Тесен гроб и вглубь, и вширь. / Я не дам тебе развода, / Потому что я упырь“ – из этого стихотворения вышел весь ранний Мамлеев»[210].
Куда менее категоричной и более близкой к правде мне кажется точка зрения, высказанная в беседе со мной Дмитрием Канаевым, близким знакомым позднего Мамлеева и по совместительству поклонником Ковенацкого-графика: «Ковенацкий, наверное, единственный, кто адекватно иллюстрировал Мамлеева. Иллюстрировал не сами рассказы, но их дух, пространство. Могла бы получиться отличная книжка: возьмите шесть-семь мамлеевских рассказов, добавьте туда десяток иллюстраций Ковенацкого, напечатайте на желтой бумаге дешевенькое издание с мягкой обложкой в совковом стиле, и вы увидите – будет эффект». Действительно, в творческих отношениях Ковенацкого и Мамлеева нет никакой состязательности, но есть взаимное влияние и дополнение. В Южинском переулке даже хранилась отдельная тетрадь: на левой части разворота Мамлеев писал стихи, а на правой Ковенацкий рисовал иллюстрации.