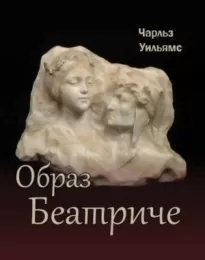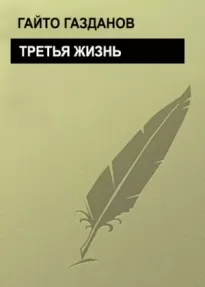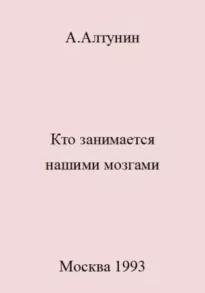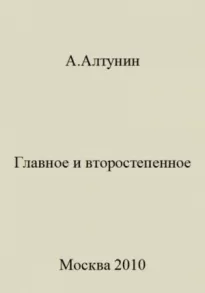Социалистический реализм: превратности метода
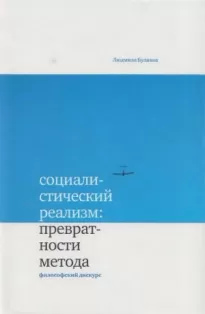
- Автор: Людмила Булавка
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Социалистический реализм: превратности метода"
Такая ситуация становилась основанием для отчуждения идейных манифестов художника, которые он через свои произведения пропагандировал (если таковое вообще было), от его реальной общественной позиции как гражданина. Были случаи и прямо противоположные, но выражающие все тот же самый вид отчуждения. Одним из примеров этого может служить тот факт, что, опасаясь рецидивов вульгарной социологии, художники иногда боялись проявлять в своем творчестве исторический подход[264].
Так, например, прозаик П. Павленко и критик Ф. Левин 31 января 1941 г. на открытом партийном собрании писателей в Москве прямо заявили о подобном роде боязни как одной из важнейших причин ослабления реализма в литературе: «Из боязни сделать что-нибудь отрицательное, вредное, преступное... Автор... в результате занимается смягчением конфликта и лакировкой действительности, полагая, что на этом пути ему будет гораздо легче»[265].
Как правило, снятие отчуждения между манифестами и возможностью следования им в своем творчестве оказывалось далеко не всегда во власти самого художника.
В связи с этим возникает следующий вопрос: если художник как общественный субъект был отчужден от реальных жизненных процессов, то каким образом происходил выбор им тех или иных тем, проблем, идей для своего творчества? На какой основе происходило формирование той проблематики, которая, замыкаясь на личность художника, рождала «вольтову дугу» его творчества? Ведь вопрос темы творчества, вдохновляющей художника, — это вопрос достаточно сложный, чтобы решать его прямо: либо усилиями интеллекта и воли, либо принятием соответствующего политического, организационного или этического решения.
О сложности данной проблемы откровенно сказал в своем выступлении на Первом съезде советских писателей Ю.К. Олеша: «В то время как я продумывал тему нищего, искал молодости, страна строила заводы.
Это была первая пятилетка создания социалистической промышленности. Это не было моей темой. Я мог поехать на стройку, жить на заводе среди рабочих, описать их в очерке, даже в романе, но это не было моей темой, которая шла от моей кровеносной системы, от моего дыхания. Я не был в этой теме настоящим художником. Я бы лгал, выдумывал; у меня не было бы того, что называется вдохновением.
Мне трудно понять тип рабочего, тип героя-революционера. Я им не могу быть.
Это выше моих сил, выше моего понимания. Поэтому я об этом не пишу. Я испугался и стал думать, что никому не нужен, что мои особенности художника не к чему приложить, и поэтому вырос во мне ужасный образ нищеты, образ, который меня убивал. А в это время молодела страна»[266].
Между тем генетически в период начала 20-х гг. свобода художественного творчества была «завязана» на принцип творческого бытия и в сфере непосредственно общественной практики, что показала, в частности, жизнедеятельность В. Маяковского, явившая пример диалектического сопряжения принципов художественного и общественного бытия индивида. Нарастание отчуждения конца 20-х—начала 30-х гг. разомкнуло это диалектическое единство на многие десятилетия.
Невозможность разрешения противоречия творца между его общественной и творческой ипостасью в конечном итоге приводила к появлению у него отчужденного отношения уже к самой действительности. Эта тенденция укреплялась по мере угасания социального творчества от 30-х к 70-м годам прошлого века. Вот что пишет об этом «эффекте отчуждения», проявляемого в художественной среде 70-80-х гг., К. Машкин: «Они (полуофициальные живописцы — Л.Б.) работали так, как если бы советская жизнь не заключала в себе неразрешимых противоречий. Или так, как будто не требовалось вообще делать выбор. Есть важные и большие вещи. Есть природа и человек, история и духовное начало, подсознание, мир семьи и рода... Нам, понимающим людям искусства, всего этого более чем достаточно. А власть, социум, начальники, их идеология и сама советская действительность — это, конечно, неприятные и тяжкие моменты жизни, но можно их как бы забыть... Такова была скрытая, но совершенно несомненная общественная позиция полуофициальных художников последних трех десятилетий»[267].
Дальнейшее нарастание этого социального отчуждения латентно сказывалось уже и на самом творчестве художника. Подобная ситуация нередко порождала искусство, формально ориентированное на выполнение социального заказа, понимание которого сводилось к уяснению формальных критериев соответствия требованиям «идеологически выдержанного» искусства.
Понимая всю меру опасности подобных директивно-императивных проявлений в области творчества, многие участники еще Первого съезда советских писателей выступили с предупреждениями об угрозе возникновения таких отчужденных форм отношений в литературном сообществе. Вот лишь некоторые примеры этого.
А.М. Горький:
«“Вождизм” — это болезнь эпохи, она вызвана пониженной жизнеспособностью мелкого мещанства, ощущением его неизбежной гибели в борьбе капиталиста с пролетарием и страхом пред гибелью, — страхом, который гонит мещанина на ту сторону, которую он издавна привык считать наиболее физически сильной, — в сторону работодателя — эксплоататора чужого труда, грабителя мира»[268].
«Партийное руководство литературой должно быть строго очищено от всяких влияний мещанства»[269].
«...критика наша не талантлива, схоластична и малограмотна по отношению к текущей действительности»[270].
«Коммунизм идей не совпадает с характером наших действий и взаимоотношений в нашей среде, взаимоотношений, в коих весьма серьезную роль играет мещанство, выраженное в зависти, в жадности, в пошлых сплетнях и взаимной хуле друг на друга»[271].
И.Г. Эренбург:
«Нельзя... рассматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачи — как реабилитацию»[272].
«Провинциально и наше отношение к иностранной литературе — то огульное отрицание всего того, что делается за границей, то погоня за последней модой»[273].
«Но изучение этого опыта (великих писателей — Л.Б.) у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести. Так появляются стихи о тракторах, подозрительно похожие на довоенные романсы»[274].
«Нельзя допускать, чтобы литературный разбор произведения автора тотчас же влиял на его социальное положение»[275].
«Но зачем скрывать, что часто по непониманию социальный заказ понимается как просто заказ: написать так-то и то-то. Это ведомственный подход к литературе»[276].
С.М. Кирсанов:
«Глубоко ошибаются те, которые думают, что советская поэзии процветет тогда, когда не будет споров, не будет дискуссий, не будет творческих течений, когда все встанут в один ряд и вежливо согласятся с товарищем Бухариным»[277].
«Те товарищи, которые пытаются ...превратить этот замечательный лозунг в какую-то школу и свести его к некоторым сюжетным и стилевым приемам, эти товарищи не правы»[278].
«...подъем поэтической культуры советского стиха, уже сейчас очень высокого, может быть достигнут только при широком соревновании разнообразнейших школ и направлений. Однако, товарищи, до съезда у нас замечались попытки подменить эту необходимейшую форму развития советской поэзии этаким распределением поэтов по разнообразным разрядам, чинам и ящикам. Сколько было придумано разных кличек, чинов: принятые и непринятые, ведущие и неведущие, авторитетные и неавторитетные, самостоятельно значимые и самостоятельно незначимые, первая обойма, железный фонд, поднятые на щит, скинутые со щитов, и, наконец, тут: устаревшие и неустаревшие»[279].
В.М. Инбер:
«...писатели прошлого не боялись недостатков своих героев. Они их снабжали всеми человеческими качествами. Они их любили и возвышали силой своей любви до положительного образа. Мы же, снабжая положительного героя заранее заготовленными добродетелями, получаем «роботов». Больше всего мы должны бояться абстрактности, схематичности»[280].
И.Л. Альтман:
«Надо создать новые законы, а не каноны искусства»[281].
К.А. Тренев:
«Злейший наш враг — это шаблон. Где шаблон — там нет строительства душ, а есть вредительство. В искусстве штамп — печать смерти»[282].
Я.З. Городской:
«Мы должны обрушиться на такие явления, как “воспеванчество” и “литературщина”»[283].
А. А. Фадеев:
— «Схематизм сильно заедает нашу драматургию, и это справедливо не только в отношении молодняка, но и ряда драматургов, которые у нас считаются лучшими»[284].
* * *
Акцентируя идею дихотомии социалистического реализма и его превращенных форм», еще раз сформулируем ее основные слагаемые:
— Соцреализм как метод разотчуждения, будучи характерен как для художественного, так и для социального творчества, предполагает единство этих двух типов деятельности, существующих в разных сферах (первая — в идеальной, вторая — в материальной). В «официозном соцреализме» это единство нарушается вследствие угасания социального творчества.
— Соцреализм — это метод, который возникает из социально-креативной практики. Согласно же концепту «официозного соцреализма» мы имеем прямо противоположную логику: в этом случае практика (художественная) должна была ориентироваться на метод, т.е. практика должна была соответствовать формализованным выводам о методе.
— Соцреализм — это художественная реакция на действительную потребность общественного обновления, в то время как его превращенные формы обязывают художника ориентироваться на идеологический канон в своем творчестве.
— Соцреализм — это творчество авторского метода разотчуждения. «Официозный соцреализм» — это метод «созидания» казенного партийного «искусства», призванного быть иллюстрацией идеологических императивов.
— В соцреализме художник как субъект творчества существует в неразрывном единстве со своим методом и с социальной практикой преобразования общественных отношений. В превращенных формах художник, его метод и общественная практика связаны между собой, но опосредованно, зачастую при помощи отчужденных бюрократических форм, не образуя единой и целостной системы.
— Соцреализм — это принцип конкретно-всеобщий (= авторский), вот почему его нельзя толковать как раз и навсегда всем данный метод. Соответственно, его нельзя повторить, «размножить» — художник всякий раз рождает его заново, исходя из личностной и исторической контекстуальности и потому он всякий раз дает новый, принципиально отличный от прежнего результат. «Официозный соцреализм», напротив, требует репродукции ранее принятых художественных решений, повторения уже раз найденных приемов и результатов.
— Соцреализм ищет и утверждает метод преобразования действительности (как в идеальной, так и в материальной форме) как всеобщий принцип, который отвечает природе родового человека, творчества и искусства. «Официозный соцреализм» ищет и утверждает принцип не конкретно-всеобщего, а формально-общего, что совершенно противоречит природе искусства и творчества вообще.
— Исторический и творческий подход к действительным противоречиям, заявленный методом соцреализма, уже в его превращенных формах подменяется формально классовым, формально-партийным.