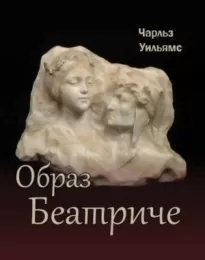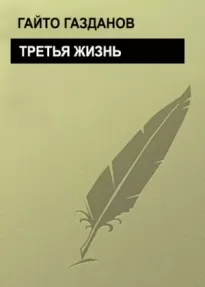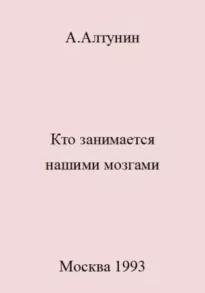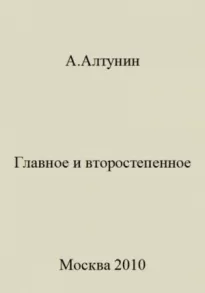Социалистический реализм: превратности метода
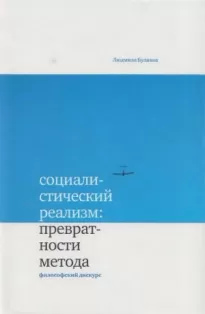
- Автор: Людмила Булавка
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Социалистический реализм: превратности метода"
Но по мере нарастания бюрократизма (и здесь речь уже пойдет о втором периоде — 30—50-х гг.) происходило заметное ослабление роли общественных движений, которые постепенно трансформировались в систему формальных социальных институтов и далее — казенных учреждений. Это отражалось и на развитии советской культуры, ее социальных форм, а также ее субъекта и метода. В первую очередь эти трансформации вызывали изменение базового отношения советской культуры, сформированного в 20-е гг., а именно единства социально-творческого процесса и культуры.
Было бы упрощением полагать, что эта метаморфоза происходила по принципу формальной смены одного отношения на другое. Не имея возможности подробно осветить этот вопрос, зафиксируем лишь то, что теперь принцип политических отношений (партия — творческий союз) становится доминирующим в определении содержания и характера творчества. Принцип творчества — «партия — творческий союз» — становится определяющим и для остальных вышеназванных отношений: «идея—культура» и «власть—художник».
Это вовсе не значит, что первое подменяет последнее. Нет, но прежде существовавшая целостность (единство общественной, политической и личной составляющих) с этого момента начинает размываться. Теперь художник может выразить свою общественную позицию не прямо, а главным образом опосредованно, через творческое объединение (писателей, художников, кинодеятелей) с четкой подчиненностью художественных задач идеологическим.
Внешне сходные черты можно найти в творчестве Маяковского, но дело в том, что у него эта детерминация предопределялась природой его творчества и самое главное — его позицией, личностной по форме и общественной по содержанию, что было результатом его общественного и культурного развития. В случае с Маяковским детерминационное отношение — «новый мир — художник» — формировалось на качественно иной основе. Маяковский сам был субъектом не только идеи, но и практики создания нового мира. И как таковой он делает вызов (в том числе художественный) уже себе самому как субъекту культуры. Именно этим вызовом определяются и творческие интенции поэта, и его художественный метод, который детерминируется историческим вызовом гражданской позиции самого поэта. На примере Маяковского мы сталкиваемся с тем случаем, когда на место спонтанного творчества приходит принцип самодетерминации, когда художник сам по доброй воле и в соответствии со своей позицией определяет содержание и все составляющие своего творчества, в том числе, и метод. Здесь творческий метод возникает не как некая довлеющая над художником трансцеденция, а как результат действительного сопряжения задач художественного и исторического творчества (творчества новых общественных отношений).
В этой логике лежит и решение одной из важнейших проблем художника — проблемы свободы творчества. В связи с этим представляет интерес позиция Маяковского в отношении рекламы — области, казалось бы, очень далекой от сферы свободного творчества. Работая в области рекламы, поэт подчеркивает, что он и здесь свободно творит то, что он сам хочет (другое дело, что он хочет именно то, что нужно обществу). В этом его принципиальное отличие от тех художников, кто, также занимаясь ею (но на рыночной основе), подчинял свое творчество интересам капитала, весьма далеким от настоящего искусства.
В связи с оценкой проблемы писательской и творческой свободы Маяковский замечает по поводу поэзии Юлиана Тувима: «Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что “Облако в штанах”, но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь, — какие тут “облаки”! ...Что же делать Тувимам? Тувимы пишут тексты для певиц и певцов варьете. (Глупые скажут: “А сам про Моссельпром писал?” — Я про Моссельпромы хочу писать потому, что нужно. А ему для варьете и не нужно, и не хочется). И варьете прекрасно, если писать хоть немного “что хочешь”... Правда — можно писать и против того, что видишь. Но тогда кто тебя будет печатать?»[290].
Возвращаясь к проблеме детерминации творчества, напомним, что в 30-е гг. доминирующим становится политический тип детерминации, который через отношение «партия — творческий союз» определял господствующий характер и культурной политики, и самого художественного творчества на этом историческом этапе. Социальной субстанцией творчества становилось отношение «партия — творческий союз», и именно оно теперь определяло все формы общественной и культурной субъектности творца.
Надо сказать, что еще до революции редко случалось, когда в своем общественном бытии в сфере культуры художник исходил лишь из самого себя — достаточно вспомнить широкий и разнообразный круг творческих объединений, составлявших культурную общественность России начала XX века. Однако творческие объединения художников дореволюционного периода и 30-х гг. были сообществами разного типа. Их принципиальное различие заключалось в следующем.
Во-первых, дореволюционные художественные объединения формировались главным образом на основе общности тех или иных художественных идей. В основе советских творческих объединений, независимо от их отраслевой модификации, лежали принципы идеологические.
Во-вторых, дореволюционные объединения возникали главным образом по инициативе самих художников, в то время как советские творческие объединения 30-х гг. были инициированы господствующей партией (по крайней мере это было так представлено ее идеологами). Об этом, например, было прямо написано в Уставе Союза советских писателей: «Историческое решение ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. указало на создание единого Союза советских писателей, как на организационную форму этого объединения»[291].
В действительности это означало самороспуск всех оставшихся литературных групп[292], в том числе, и РАППа, который в конце 20-х гг. был едва ли не главным субъектом литературного процесса.
Август 1934 г. в истории советской культуры ознаменован Первым съездом союза писателей страны, реально и формально закрепившим возникновение в СССР единого литературного сообщества, которое нельзя рассматривать как форму некой суммарной интеграции разных литературных групп и течений, существовавших до этого и имевших свою исторически сложившуюся структуру. Это было объединение качественно нового типа, несущее в себе новую группу противоречий.
С одной стороны, казалось бы, созданное единое сообщество писателей устраняло основы существовавших прежде межгрупповых конфликтов. Кроме того, это давало бы художникам уже в своем широком сообществе иметь более богатые возможности для общения, осуществления культурных (не художественных) программ и координации совместных действий, оставаясь при этом на своих художественных позициях.
Здесь хочется привести пример с композитором Р. Щедриным. Как-то в беседе с Р. Щедриным (1988 г.) профессор Московской консерватории В. Холопова утверждала, что для развития музыкального творчества необходимы сформулированные творческие программы, тем более что европейская художественная практика дает немало тому примеров. И вот что по этому поводу ответил Р. Щедрин: «...насчет “программности” вы попали в самую болевую точку... Можно вспомнить, что вся “Могучая кучка” зиждилась на программе, сформулированной Стасовым... То же самое увидим, если возьмем французскую композиторскую “шестерку”, сюрреализм Л. Арагона и П. Элюара, конструктивизм Ф. Леже, а в России — группу “Бубновый валет”, супрематизм. Сейчас же некая художественная “беспрограммность” у композиторов налицо»[293].
Но, с другой стороны, это было сворачиванием и всего многообразия художественных направлений, которые они представляли. Вот что по этому поводу заметил В. Розов уже в наши дни: «...Создание Союза писателей было актом Сталина очень мудрым (с точки зрения злодея) и очень хитрым: он взял и уничтожил сразу все направления, которые естественно существовали в нашей литературе, объединил их в одно и дал одну программу поведения. Создал, так сказать, писательскую казарму, в которой команды “вольно” чуть больше, чем в простой казарме»[294].
Надо сказать, что еще в 20-е гг. вопрос основ и принципов самоорганизации художников — тех, кто по тем или иным причинам в этот период оказался вне организаций и кружков, возникших еще до революции, обсуждался достаточно широко и активно. Данный вопрос тогда ставился в основном в связи с проблемой: кто должен и может определять новый социалистический курс художественной политики в стране. Прекрасно понимая важность определения принципиального различия между вопросами культурной и художественной политики, А.В. Луначарский подчеркивал различную роль и полномочия партии в подходах к каждому из них.
Что касается проблемы культурной политики, то здесь партия имела свою программу и четкое понимание своей роли в ее осуществлении, тем более что практика решения многих ее вопросов в 20-е гг. широким кругом субъектов (разнообразными общественными комитетами и комиссиями, советами и профсоюзами, партией и художественными организациями) сама определяла действительную роль и приоритет каждого из них.
В том, что касается столь сложнейшей области как художественная политика, то в этом вопросе партия определяла свое место принципиально иначе: «Дело ведь вовсе не так обстоит, что у партии есть по вопросам будущего искусства определенные и твердые решения, а некая группа саботирует их. Этого нет и в помине. Никаких готовых решений по вопросу о формах стихосложения, об эволюции театра, об обновлении литературного языка, об архитектурном стиле и пр. у партии нет и быть не может...» — писал Л. Троцкий[295]. И далее продолжал: «В области искусства вопрос обстоит и проще, и сложнее. Поскольку дело идет о политическом использовании искусства или о недопущении такого использования со стороны врагов, у партии имеется достаточно опыта, чутья, решимости и средств. Но активное развитие искусства, борьба за новые его формальные достижения не составляют предмета прямых задач и забот партии»[296].
Об этом же говорит и А.В. Луначарский: «Мы не в таком положении, чтобы теперь как-то теоретически определить, что такое пролетарский стиль, и потом стараться быть ему верным, а неверных отсекать или карать. Мы должны предоставить в отношении стилистических исканий нашим драматургам (и писателям вообще) величайшую свободу и из их исканий, из их удач и неудач выводить потом нормы основных стилей нашего социалистического художественного творчества»[297].
Также осторожно подходил нарком просвещения и к вопросу о роли «пролетарского государства» в определении художественных приоритетов: «Государство не имеет права в настоящее время становиться на точку зрения того или другого стиля; той или другой школы и покровительствовать им как государственным; оно обязано впредь, до окончательного уяснения стиля новой эпохи, поддерживать все формальные устремления современного искусства»[298]. Хотя надо понимать, что реальная культурная политика 20-х гг. определялась не только позицией идеологов партии, но и низовыми художественными сообществами.