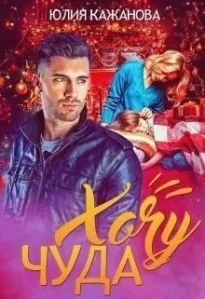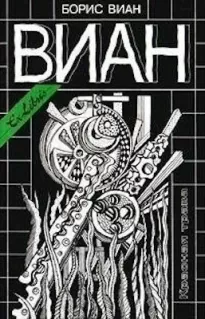Музей «Калифорния»
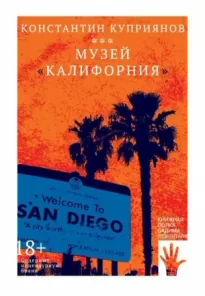
- Автор: Константин Куприянов
- Жанр: Русская современная проза / Современные российские издания
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Музей «Калифорния»"
Дамиан воодушевлен больше моего: все-таки не всякий день летишь на историческую родину. Его кровь из Польши, но, думаем оба, было что-то восточнее, что вмешало в нее неистребимую черноватую ярость, выносливость и скупость, желчь и тупую настойчивость. Где-то в центре Европы смешиваются четыре лучших крови.
So speaks Damian. (Здесь и далее перевод автора.)
Северная — чистые мощь и выносливость, западная — трудолюбие, упрямая вера в свою безоговорочную правоту, в право быть правым, восточная — хитрость и злоба, способность перелиться через край смерти и выжить, зная одно право: тело драгоценно, и я храню тело до последнего, и, наконец, южная — находчивость и разморенная лень, умение расслабиться и поймать в отдыхе отдаленное эхо гения, простершего над Землей взмах грандиозных, почти неподвижных крыльев.
«Все это во мне, — горделиво сообщает Дамиан, — а избрал я образ черного духа, который больше всего похож на сущность покровителя нашего, ведь ты давно принял, что мы проснулись во Вселенной дьявола? Давай уж, Кави-Костяшка… Это самый короткий путь к правде. Тебе ли, двадцать семь лет прослужившему в России человеком, не видеть?.. Самые красивые, талантливые, добрые люди, годящиеся и для торжества, и для самопожертвования, под пяткой самых гнусных и нелепых. А из способов вырваться у них — смерть да эмиграция — в общем, одно и то же, что-то в себе придется умертвить, от этого не скроешься».
Мы влетаем в тучу над Москвой, над великим столичным городом, сердцем необъятной степной империи, одолевшей столько преград на пути, что ничего уже не сломит ее. Дамиан прилипает лбом к иллюминатору: «Тут ближе всего копия материального с духовного чертежа, и конечно, над всем этим огнедышащий ангел, во сне которого все совершается. Его огненное тело мне очень подходит, я сам соткан из огня, лишь на время остывшего, чтоб напитаться паром, поднявшимся от войны горячего с холодным, чтоб затвердеть и стать кожей, органами, суставами, мышцами… Из пара вслед за моей душой появляется воздух, такая же любовь, как мой дух. Но по изначальному чертежу я все же пламя, во мне недаром кипучий огонь, переваривающий любую пищу, и недаром во мне огонь желания, не дающий мне спокойно на берегу лишь созерцать превращения, не соучаствуя.
Пламя в моей голове — это единственный мучитель, другого нет; вообще ничего вне меня не умеет и не хочет мучить. Поэтому единственный подлинно существующий мучитель, огненный шмель внутри — это сознание, видящее себя, и назначающее себя всего ценностью, и лишающее себя всей изначальной ценности. Этот ангел тоже страдает, но у него за спиной, по крайней мере, есть истина — стена любви (не совсем, конечно, любви, однако из доступных нам слов „любовь“, пожалуй, ближе всего к описанию — всеобъятное чувство гармонии, совершенства, правильности, уместности, нельзя ли сравнить это с известной мне в теле любовью? — примеч. соавтора-К), из которой он выходит. Мне же достается жалкое подобие, отсвет от костра на двухмерной каменной поверхности моей пещеры, и, как настоящий узник, я лучшего места не помню, чем эта пещера-темница, и любуюсь ею, и люблю ее.
О да, — заключает Дамиан, когда самолет наш через брюхо тучи вырывается в тенистые объятия родины, — определенно мы жители тела Дьявола, и смены эти — холода на жару, сухости на влагу, дня на ночь — лишь затмевают это, когда мы мчимся на своем куске камня через тело-его-Ночь. Беги-беги, возвращайся и вновь беги, но все закончится тем, с чего началось. Движением, превращением, пламенем».
Из-за КОВИД поменяли расписание рейсов, и той весной в Москву из Лос-Анджелеса несет нас ночной самолет, еще одна нежданная радость, выросшая из глобальной трагедии. Никто уже не хочет носить маску, хотя самый разгар дикой заболеваемости, но русские ближе к фатуму, сэйфти им мозги не запудришь, есть, конечно, мера разумного, но в целом… В целом фатум ясен, нам написали о нем слишком многие и слишком часто, чтобы еще сохранять какую-то маску ложной цивилизованности. Да свершится что дóлжно. В осознании своей беспомощности перед обстоятельствами — наша русская власть над обстоятельствами. Я еду прямиком в Петербург, самый футуристический, самый послушный фатуму, самый подходящий для черных бормочущих двойников город, и тоже имперский город. Везу туда духа-наперсника, сменяющего меня перед людьми, чтоб по акценту не распознали хитроумной подмены; я зачинаю в нем книгу, которая заменит меня во времени, а потом так же, как и мои органы, клетки, чаяния, — и эта книга пропадет, будто не было вовсе; так близко и скоро, что до безумия хочется верить, что смыслы держатся и пребывают. И что не властны над ними движение, превращение, пламя.
В Петербурге я проповедую веру. Я подключаю людей… (Правильнее — думаю, что подключаю — при-меч. соавтора-К) вовлекаю — словно за моей спиной вьется мантия, словно я всегда, день ото дня, лет с тринадцати, а то и раньше, только и делал, что ранним утром, натощак, молился по четыре часа, пока дневное тепло не воцарялось, а затем надевал на голое тело шелковые платки и плюшевые халаты, изысканные украшения — достаточно очищенный утренним возгласом, чтобы не помнить, как они дороги и милы человеческому глазу, очищенный от честолюбия и тщеславия, — и вставал на обычное свое гнилое место и говорил. Будто это я Гурума, и Тибетец, и профессор Макс, вместе взятые, будто я — ученик царя котов, радостного и простого, кто бы ни смотрел на него, вельможа или крестьянин, — будто я всему уже обучился.
Короче, я проповедую, словно за мной нет ни слежки, ни погони, словно это свободный мир, словно все перепутано в человеческом языке и они называют по ошибке Россию dictatorship, while that American idol they call the freedom, but it is not! All is twisted! Все перекручено, рассказываю я в своем темном углу, когда в очередной раз толпа не приходит слушать, ни один живой человек, никто не является послушать, а я рассказываю, будто лишенный тщеславия, что в сердце у меня поселился наследник, тяжелый душный клещ, которого никто не подмечает, мечтающий быть не тем, кем ему довелось уродиться, и он явно одерживает победу.
Это последнее, что им доведется услышать, я приехал домой, в этот пропитанный болотными газами край, чтобы произнести лишь парочку диалогов, я разыгрываюсь и играю. Вначале с редактором моей книжки, она встречает меня перед лифтом, зовут ее Лана, я спрашиваю: «А что сами вы писали?» — Вопрос повис в пугающей пустоте, я заполнил ее, чтоб избавить нас от неловкости:
«Знаете, есть конъюнктурное признание, есть общественное признание, есть историческое признание. Жаль, они редко совпадают во времени, а еще я чувствую, что ни одно из них не дает носителю ничего утешающего. Можно ненадолго утолить внутренний голод, тщеславие, заполнить пустоты в легких, которым следовало бы полниться любовью, но это не так просто. Раз как-то меня спросили о наслаждении, и мне было нечего написать. Разве что банальное, что наслаждение есть отклик мозга на скрытые химические процессы, их все можно изучить и даже, применяя несколько видов наркотиков, простимулировать. И говорят люди, можно пробить „потолок наслаждения“ и познать такое, после чего меркнет все остальное. Создание книги — явно не тот путь.
Ладно, создание книги — это боль, замешанная на эксгибиционизме, уязвленном самолюбии, любопытстве, желании понравиться и желании очиститься от всех желаний, обрести первозданную невинность, доверие животворящей силе, проводником которой тебя назначают. Нет, я не верю, Лана, что можно не хотеть понравиться и при этом написать. Вернее можно — последнюю книгу. Если пишешь наперегонки со временем. Когда-нибудь у меня будет автор, который соревнуется со временем, такое, знаете, бывает: ему кажется, что за поворотом смерть (рак, Возмездие, банальная старость), и поэтому энергия угасания, обратное утекание газа в огонь, проволакивает его через действительно последнюю книгу, в такой книге может оказаться достаточно крови и сердцебиения, чтобы почудиться живой.
Ведь любой текст — это неживое. Это символы, превращенные в символы, обращенные в символы, живым бывает соприкосновение с символами: так, я где-то подхватил этот образ „читающего во мне книгу голоса“ и вот уже много лет не могу от него избавиться. Роняю темп, ритм идеи… Да впрочем, Лана, откуда у меня идеи?.. Для идей надо учиться бывать в согласии, а я рассогласованный, мне горьковато думать, что вот я выплесну всю эту пятилетнюю горечь на страницы, признаюсь в том, что попросту не могу пережить отделенность свою с Богом и женщиной, и растекутся они по жилам нашей худосочной литературки, дадут ей попереваривать, а дальше все — вот и вся неприглядная идея, идея жидкого ума.
Я бы хотел знать, что и когда вы писали, и кому, и почему не пишете больше. Стал я ненавидеть все книжки, потому что они либо плохие, либо хорошие.
Плохие грех не поненавидеть за плохость, хорошие — за то, естественно, что я завидую им. Наличие зависти уже определяет меня в самую низкую касту, в отражении окажусь где-то посередине между ежом и визгливой макакой. Зависть означает, что я умом понимаю, что нет слов написанных, а есть лишь высеченные и что облокотился на мысль о заведомой созданности всего, что было и будет. Но умственного знания не бывает достаточно, все, что знал я умом, подверглось испытанием времени и не прошло его».
Странно, что меня пригласили проговорить эти банальные последние два диалога. Как будто мы сговорились, что дальше будет последнее лето, последняя осень, последняя зима и две тысячи двадцать второй польется уже мерно, с той же скоростью — скоростью наблюдателя — без лишнего пассажира.
Закончилась деконструкция вечного лета, я завершил ее в башне, посреди питерского болота. Через линзу воспоминания кажется, будто было темно, хотя всегда все случалось днем. В следующий раз мы пили кофе, чтобы я сказал:
«Таких книг много нельзя написать. Так почему вы не пишете, добрая, милая Лана?.. Допустим, сколько смертельно больных ты подселишь под сердцем и пройдешь с ними? Трудно поверить, что больше одного, да и, по правде сказать, даже этот один никогда не покажется достаточно подлинным, никогда не пронзит. Мертвые авторы были важны старому времени, где смерти было больше, чем рождения, но сейчас люди рождаются каждую секунду. И вот теперь, даже если умрешь, просуществуешь год-два, а дальше тебя неминуемо затрет. Хорошо, если это настоящая была смерть, а если „отмена“? У нас стало дико модно. Любого можно отменить. Я даже напишу в этой книге, что ни с кем не трахался в России — знаешь, чтобы валидировать, если когда-нибудь, лет через — дцать, волна докатится до России и появится настоящая вероятность попасться, — чтобы сказать: слушайте, да в России я был еще невинен, это только Америка растлила меня. Такое саморазоблачение через саморазоблачение.
А вообще я всю дорогу замышлял написать про изумрудные горы Монтаны, все мчался сквозь предисловия, чтоб написать. Про черную полоску поезда, тянущуюся по обрыву одной из гор, про лошадей, уставившихся в наши окна, когда мы предавались греху — адюльтеру, на минуточку. Бывал ли у тебя, Лана, более волнительный, изощренный опыт, чем измена с другом?.. Измена смыслу, суженому, судьбе? Измена трем буквам „С“?..