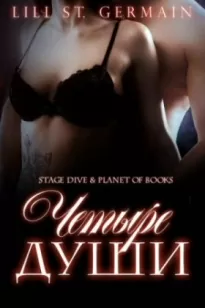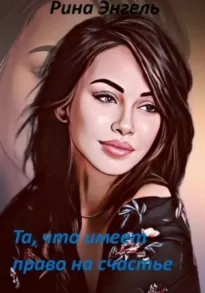Корабль-греза

- Автор: Альбан Николай Хербст
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
Читать книгу "Корабль-греза"
Но догадываться мне не хотелось.
Почему это был «хороший день»? Как выразился мистер Коди. Блажен тот, добавил он даже, у которого Господь есть Бог [144]. Тогда как меня внезапно пронзило столь сильное чувство несправедливости происходящего, что оно граничило с возмущением. Я с трудом его подавил. Хотя ничего конкретного я не услышал. Возможно, Патрик решил просто остаться в Лиссабоне. Там тоже наверняка есть больницы. Санитары, если у них имеется опыт работы, востребованы во всем мире. Он мог бы, само собой, снова стать и лесорубом. Не в самом этом городе, может быть, но, как-никак, в Португалии. В каком-нибудь лесу, от которого недалеко до Лиссабона. Может, там ощущается нехватка в рабочей силе.
Единственно правильный вывод — а именно, что Патрик умер — я сделать не мог. Что за это мои друзья и чокались.
Мистер Коди отправился за второй бутылкой шампанского. Он вернулся вместе с доктором Самиром. «Хвала Аллаху, Господу миров» [145], — сказал тот с улыбкой, приветствуя нас. Он в самом деле сказал «миров», а не просто «мира». О чем я еще долго невольно думал. Потом он подсел к нам.
Такой единственно правильный вывод я сделать не хотел. Ведь это был день, предназначенный для моего, а не Патрика, умирания. Как горько! Но и как эгоистично с моей стороны!
Я ведь видел, как он сидит на солнце. Тогда я уже спал, позволяя палубе юта меня укачивать. Он, в этом Jardim (57), отломил фильтр от сигареты. Сидя на скамье, спинка которой обращена к белой, высотой по грудь, стенке. Там он зажал сигарету между губами и зажег ее. Но прежде снял с головы свою дерзкую шляпу и положил ее слева, рядом с собой, на коричневые рейки сиденья. Потом он закурил. Мгновение смотрел на солнце. После чего опустил выразительную голову и позволил взгля-ду еще раз прогуляться по парку. Он видел, как матери, иногда сопровождаемые отцами, толкают перед собой детские коляски. Он смотрел на стариков и на высокий купол Национального Пантеона [146]. Перед этим зданием и перед ним самим лежал, раскинувшись, город его грез. Потом он умер, просто внезапно умер, с одной секунды на другую. Это произошло из-за счастья, которое переполняло его, Прибывшего. Потому что даже сердце здорового человека, собственно, слишком малó для такого рода переживаний. Патрик умер от счастья, думал я, — настолько большого, что его сердце, поскольку оно все-таки было больным, не смогло этого вынести. Ведь кто добрался до города своих грез, тому он дозволен.
45°46' с. ш. / 10°49' з. д.
Разве нет, Lastotschka, легенд о каких-то людях, которые прокляты и обречены на то, чтобы всё продолжать жить, уже перейдя за предел своей жизни и жизней всех прочих людей? Не потому, что речь для них идет об исполнении их предназначения, но чтобы их исключить? Потому что это — наказание нам. Потому что мы, к примеру, только глазели, когда Иисус умирал? Не обязательно даже, чтобы мы смеялись над ним. Но достаточно, что мы просто смотрели из любопытства? Потому что мы не имели сострадания? Не поэтому ли он, как бишь его звали, повесился? Потому что знал, что именно такая кара его постигнет?
Или когда кто-то совершал в своей жизни только неправедное, всегда только неправедное. Тогда он должен скитаться на таком корабле и только раз в семь лет вправе сходить на берег. Потому что тогда он, может, встретит кого-то, кто будет говорить для него? Кто за него замолвит слово, невольно думаю я. Кто сделал бы такое для меня?
Я сижу в моем Храме один. В нем нет исповедальни, как бывает в католических церквях. Где хотя бы священник готов замолвить за тебя слово. Единственный на борту, кто, может, сделал бы это, — доктор Самир. Я люблю доктора Самира едва ли не больше, сказал бы я, чем тебя. Но говорить я и с ним не могу. У него есть религия. У меня же нет никакой, и никогда не было. Поэтому я не могу внезапно поверить Мухаммеду. Что он сын Аллаха. Никакой высшей силы нет. Ничто не указывает на ее существование. Даже и сейчас — когда я уже, можно сказать, перед ней стою. Есть только свобода от всего, даже от вины. Так что я верю разве что в фейных морских ласточек.
Но они могут летать. Я же, напротив, лежу, отягощенный мною самим, в постели. Отягощенный стыдом, что я не смог радоваться вместе с ними. Что я вместо этого возмутился. И испугался, что только вообразил себе все, связанное с моей смертью. Теперь она настигнет меня, думал я, — месть. Как раз теперь, когда я уже отступился ото всего и даже почти помирился с Петрой. Даже с матерью я помирился, которая далека от меня еще больше, чем моя бабушка. И после этого меня не пропускают, не дают мне уйти.
Оно не дает мне уйти.
Это прощание с Лиссабоном было для меня ужаснейшим из всех вообще прощаний. Даже хуже, чем любое прощание из прежних моих путешествий. О которых я толком не помню. — Что, если это вовсе не последнее мое путешествие? И мне придется продолжать и продолжать странствовать? Вскоре, быть может, только в пределах моей каюты? Обездвиженным, запертым? И на море я смогу смотреть только через окно и даже слышать его не буду, а только — шум кондиционера? Месяцами, годами? Пока не придет кто-то и не задернет гардины? Дескать, я и видеть его больше не должен. Тогда меня будет окружать только непрерывное жужжание. Постоянно горит лампа на потолке. Даже бра горят, хоть и приглушенно. А снаружи в коридоре пищит электрический сигнал, всякий раз как кто-то вызывает горничную.
Никто больше не говорит со мной. Даже Татьяна онемела, с тех пор как Патрика больше нет. Молча стягивает с меня одеяло и молча переворачивает меня на бок. Когда она меня моет, опять надевает резиновые перчатки. Меня больше не доставляют в ванную, и в туалет тоже нет.
Снаружи друзья забывают меня. Я, так или иначе, всегда только молча сидел рядом с ними, с моим неподвижным лицом. Я, со своей стороны, тоже их забываю, к примеру — мсье Байуна. Он, возможно, был одним из моих друзей. Но ничего, кроме его сигариллы, я о нем не помню. И — что был некий доктор Гилберн, чье лицо поблекло чуть ли не еще больше.
Где же моя трость? Была некая женщина, от которой я ее получил. Трости я не вижу. Наверняка она стоит где-нибудь в углу. Обычно она всегда лежит на кресле-каталке. Но его я тоже не могу обнаружить.
Время от времени заходит сеньора Гайлинт. Но и она молчит. Молча стоит возле кровати и смотрит на меня сверху вниз, проникая взглядом аж до мозга костей. Когда доктор Самир возникает у нее за спиной и говорит: он не может вас слышать. Но имеет ли тогда смысл, спрашивает она, продлевать его мучения? В ответ он пожимает плечами. Решение в таких случаях принимает семья. Что он больше не улыбается — самое ужасное во всем этом. На палубе юта клошар наверняка снова изобра-жает Клабаутермана. Тебе, конечно, сказали, что я больше не приду к роялю. Тогда ты быстро сглотнула слюну и слегка погрустнела. Но уже снова должна была упражняться перед следующим выступлением.
Жизнь идет своим чередом без меня. Но и без того, чтобы меня больше не было. Я только изъят из этого мира. Запечатан в своей каюте-могиле. Даже земли вокруг нее нет. Я не должен сгнить, это было бы слишком легко. Даже на морское дно не вправе она опуститься, где я бы, возможно, растворился, мало-помалу разъеденный солью. Но я, немертвый, буду и дальше дрейфовать сквозь Пространство-Время. Которое для меня не прекратится. И Сознание тоже не прекратится, а станет бездушным растением.
Вот оно, покрытое плесенью, обвивается вокруг деревьев подлеска. На нем поселились насекомые-паразиты, которые суть не что иное, как отблески. И оно хочет для себя только одного: быть израсходованным. Бесследно израсходованным. Уже нет ни сил, ни желания, чтобы, по крайней мере, представить себе воробьев. Как они что-то с тебя склевывают. Вот они уже снова вспорхнули, с волоконцами «ты» в клювах. Может, они хотят использовать их для своего гнезда. Но даже на это уже не осталось надежды. Таким пустым ты становишься из-за чистейшего ужаса. Когда видишь себя со стороны.
В эту ночь я услышал крик. Он звучал так близко, что его источник должен был где-то граничить с моим коридором. Из одной из соседних кают Балтийской палубы. Я не мог ни продолжать спать, ни даже дремать. Это было совершенно невозможно, если ты человек. Когда ты слышишь такое.
Это был не столько крик, сколько звериный вой, взывавший по-итальянски о помощи, и даже — к карабинерам. Aiuto! Aiuto! (58) При этом нельзя было определить, женщина ли кричит или мужчина. Кричала сама человечность. Ни один врач не мог бы ей помочь, и уж тем более ни один полицейский. Даже эти карабинеры, если бы таковые были на борту, только стояли бы беспомощно перед каютой. Может, они как раз решили бы взломать дверь, чтобы доставить женщину вниз, в госпиталь. Это ведь была женщина, теперь это можно было расслышать. Но даже доктор Самир не сумел бы предпринять ничего другого, кроме как сделать ей укол. От него она, правда, заснула бы. Но на следующее утро, проснувшись и смутно увидев, чтó ее окружает, начала бы кричать снова. Как только убедилась бы, что еще жива.
Она кричит, по сути, один-единственный звук, кричит и кричит его. Он, Lastotschka, — антиматерия нашего звука. Он, как Антихрист, проник в нее, в эту женщину. Может, кто-то, очень близкий ей, умер. И теперь она не может без него жить. Sto tanto male! (59), кричит она: Я больше этого не выдержу! Почти шестьдесят лет в браке. Но она испытывает такой страх перед смертью, или ее вера запрещает ей самовольно последовать за мужем. Поэтому она поначалу рванула и спрятала все эмоции внутрь себя, никак их не проявляла. Пока что-то в ней самой не порвалось. Пока она сама не порвалась. С тех пор она вытекает из себя самой, как этот звук. Вытекает, как одно-единственное Stotantomale (60). Это как если бы ля-минор был, но поток света спрессовывал бы его и вжимал прямо в глаза.
Из меня, как я понял, точно так же текло бы, не начни я свои тетради. Если бы они, не могу так не думать, не стали для меня благодатью.
Опять это Aiuto!
Опять — Stotantomale.
Так что теперь я рванул свои эмоции внутрь, в самом деле собрал их в один комок. Но — потому, что я этого захотел.
С большим трудом я поднялся. Я едва мог держаться на ногах, хотя бы потому, что попросту не видел свою трость. И кресло-каталку тоже. Но теперь это не имело значения.
Потому что снаружи никто так и не появился. Я не слышал ни шагов, ни голосов, только этот крик или вой, который был одновременно ревом из глубины этого женского нутра. Таким непостижимо пустым оно уже было. От этого и любой другой бы закричал. Заразившись этим. Он бы тогда услышал собственную пустоту. И не мог бы больше выдерживать себя самого.
Поэтому пассажиры старались ничего не слышать. И горничные старались не слышать, и стюарды, кельнеры, офицеры. Sto tanto male! Дежурная на ресепшене старалась не слышать. Carabinieri! Sto tanto male, sto tanto male! (61)
Хотя не услышать это Aiuto! было нельзя. Может, эту женщину стоило бы просто обнять, подумал я и продолжал думать дальше: что теперь у меня действительно есть повод, чтобы заговорить. Я буду утешать ее, думал я. Это более важный повод, чтобы взломать висячий замок на двери Храма, чем тот, которым стали для меня дети.