Воронье живучее
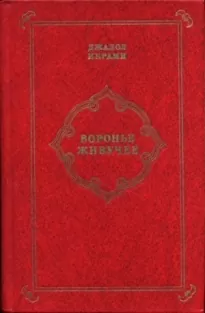
- Автор: Джалол Икрами
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1981
Читать книгу "Воронье живучее"
Раздвоенность и нерешительность вконец извели его, он стал бояться выходить на улицу: казалось, все смотрят на него осуждающе, каждый безмолвно спрашивает, почему не на фронте, какого черта с этакой мордой тут околачиваешься…
Общежитие почти опустело, осталось лишь несколько ребят — младшекурсников. Он расхаживал по комнате, мрачный и злой, когда вдруг вошла их секретарша и сказала, что вызывает заведующий. Сердце екнуло. Невольно вырвалось:
— Повестка?!
— Не знаю, — пожала плечами секретарша.
Дадоджон выбежал, хлопнув дверью. «А, будь что будет!» — решил он, входя в кабинет заведующего.
— Что вы до сих пор здесь делаете? — спросил тот, уставившись сверлящим взором из-под очков. — Почему не получили направление?
Отведя глаза, Дадоджон тихо произнес:
— Я хотел на фронт, нет повестки… Не знаю, что Делать.
— Все вы хотите на фронт, — смягчился заведующий. — Но фронт затрещит без тыла, а тылу нужны работники. Тебя определили в Курган-Тюбинский район? Та-ак. Вот тебе твое удостоверение и выписка из решения комиссии по распределению. А направление и подъемные получишь в наркомате. Сегодня же отправляйся!
В наркомате ему разъяснили, что по существующему положению он обязан год отработать, после чего удостоверение заменят дипломом и назначат на более высокую должность. В тот момент Дадоджону было наплевать на должность, он только попросил, если есть возможность, направить его в родные края, в Богистан. Но там места не оказалось.
Дадоджон бывал в Курган-Тюбе — гостил несколько раз у одного из своих товарищей, который работал там фининспектором, имел семью, дом. Поэтому отказ не очень-то огорчил Дадоджона.
В Курган-Тюбе его назначили секретарем суда и тут же выделили жилье — небольшую комнатенку в самом здании суда, где жил прежний секретарь, которого призвали в армию.
Председатель суда, моложавый кряжистый человек с высоким лбом и добрыми глазами, сказал Дадоджону:
— Пока у нас вакансия только такая, но, поверьте мне, это к лучшему. Вам, молодому выпускнику, делающему первые шаги, полезно начинать с азов, изучить на практике все так называемые мелочи и детали судопроизводства, в котором на самом деле нет никаких мелочей, поскольку решается судьба человека. Поверьте мне, эта работа станет для вас еще одной прекрасной школой.
«Все это утешительный вздор», — в сердцах подумал Дадоджон. Он затаил обиду. Стоило учиться четыре года в спецшколе, чтобы стать всего-навсего секретарем! Обошлось бы и без юридической школы. Любой мало-мальски грамотный человек может стать секретарем. Он не претендовал на должность председателя суда, знал, что не сделают его и прокурором, но разве не могли назначить следователем? Нет, словно в насмешку предложили самую низшую должность…
Должность-то действительно была не высокая, но хлопотная. Он вел все делопроизводство, всю документацию и переписку, подготавливал судебные заседания, решал десятки организационных вопросов, трудился, не поднимая головы, с утра до позднего вечера. Многому, чем пришлось заниматься, в юршколе не учили, и поэтому работа казалась трудной и изнурительной. Однако больше всего мучило одиночество. Товарищ из финотдела, оказывается, давно уже был на фронте. Его жена и дети смотрели на Дадоджона словно бы с завистью и укором: ты, мол, здесь в тепле и сытости, а наш отец воюет! Так что и к ним он ходил очень редко, иногда в день получки приносил детям лепешки, купленные на базаре.
В городе был всего лишь один кинотеатр, картины шли в основном старые, да и зрителей-то почти не осталось: одни ходили в трауре, другим было не до кино, эвакуированные только-только начинали прибывать. Оттого еще и засиживался Дадоджон допоздна на работе, что не знал, куда девать себя вечерами, которые становились все длиннее и тоскливее. Единственной отрадой стали книги. Он читал их запоем, и они согревали его и давали пищу душе и уму.
Как-то председатель суда привел его к себе домой. В комнатах было тихо, пустынно. Председатель сказал:
— Не успели мои орлы жениться и подарить нам внуков.
Двух его сыновей призвали в один день, оба сейчас где-то под Москвой. С какой гордостью отец называл их орлами! А жена председателя встретила Дадоджона радушно, словно близкого друга сыновей, но в глазах ее он увидел и печаль, и зависть, а в вопросе, который она задала, услышал укор.
— Вас не берут? — спросила она.
— Пока нет, — потупился Дадоджон. — Но я надеюсь: подавал заявление…
Соврал, снова соврал — он был противен сам себе. В ту ночь он долго не мог уснуть, кляня себя за низость. Да мужчина ли он, в конце концов? Неужто так и не преодолеет страх и трусость, будет мириться с тем, что хуже других? Да, теперь хуже. Во всем хуже. Хуже, хуже, ху-уже, твердил Дадоджон, словно бы вколачивая в себя эту мысль. Он вспоминал Ислама, Мансура и Давлята. Да и здесь, в суде, чуть ли не каждые десять дней менялись народные заседатели, и они уходили на войну, забегая попрощаться, они не очень-то скрывали удивление, что Дадоджон остается.
— Ладно, мы будем бить нечисть на фронте, а ты не давай ей плодиться тут, — сказал ему Раджибали Боев, рослый и дюжий грузчик с хлопкозавода.
Вспомнив эти слова, Дадоджон спрыгнул с кровати и, натыкаясь то на стул, то на стол, забегал по тесной каморке. «Ты же сам нечисть», — сказал он себе.
В ту ночь голос совести звучал в нем сильно и мощно, и, пожалуй, впервые он не услышал подленького голоска, мешавшего проявить решимость. Утром он поднялся свежим и бодрым. Твердость духа укрепило и письмо от Наргис, прекрасной дочери богистанского кузнеца Бобо Амона.
Дадоджон и Наргис вместе учились в кишлачной школе, вместе росли и тянулись друг к другу, не сознавая, что это начало большой и чистой любви. Романтические чувства их расцвели в годы разлуки, когда Дадоджон учился в юридической школе. Они обменивались нежными, волнующими письмами, а летом, в дни каникул, встречаясь тайком в садах кишлака, читали стихи о любви, говорили о прочитанных книгах. Они уподобляли себя влюбленным героям бессмертных поэм и преданий, считали, что разлука — испытание, и любили повторять слова поэта — «в разлуке цветок любви расцветает»…
Вот и в том письме, которое Дадоджон получил наутро после бессонной ночи, Наргис писала, что пусть не берут его ни кручина, ни сомнения, пусть ее чувства к нему вдохновляют его, пусть он верит в нее — она любит сильнее, чем Лейли любила Меджнуна и Ширин Фархада. Когда призовут его защищать Родину-мать, пусть пойдет он в бой за правое дело с легким сердцем и бьется отважно и смело. Наргис будет гордиться им и его мужеством, она будет самой счастливой, она дождется его возвращения с победой!..
Прочитав эти строки, Дадоджон схватил перо и бумагу, написал заявление и тут же отнес его в военкомат. Он прорвался к самому военкому и упрашивал отправить его в действующую армию как можно быстрее. Но военком, человек в годах, с усталым, морщинистым лицом, отвечал, что надо потерпеть, всему свое время. Дадоджон продолжал настаивать. Военком вздохнул и сказал:
— Я и сам подал два рапорта, да вот, видишь, сижу еще здесь. Так что иди и жди.
— Вы мне не верите? — вырвалось у Дадоджона.
— Все, — сказал военком, — прекратить разговор. Учись выполнять приказы.
— Какие приказы?
— Ждать!
Так и ушел Дадоджон ни с чем, и дни ожидания стали днями новых забот и новых, еще более мучительных тревог.
С фронта приходили горькие вести. Враг оккупировал большую часть Украины, всю Белоруссию и Прибалтику, окружил Ленинград и рвался к Москве.
Председатель суда получил похоронку на старшего сына — «пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Советской Родины». Три дня не показывался судья на люди, на четвертый пришел на работу и взялся за дело с удвоенной энергией. Откуда только брались у него силы? Кроме своих непосредственных обязанностей он исполнял множество общественных поручений, занялся размещением эвакуированных, их трудоустройством, определял в детские дома ребятишек, потерявших родителей, двух сирот, голубоглазых, белоголовых мальчишек, усыновил.
А Дадоджон решил пойти в райком комсомола — а вдруг пригодится и он? Ему поручили участвовать в организации помощи фронту — собирать для воинов теплые вещи и сухофрукты, денежные средства и ценности в фонд армии. Он с жаром взялся за это поручение и в свободное от работы время ходил и ездил по кишлакам, беседовал с десятками, сотнями людей, выступал на митингах и никогда не возвращался с пустыми руками.
Но, увы, его подстерегала беда. Как-то шел из дальнего кишлака пешком. Моросил дождь, навстречу дул промозглый ветер. Потом стал падать мокрый снег. Дадоджон простудился и оказался в больнице. Диагноз-воспаление легких, температура доходила до сорока градусов. Мучили колющие боли в груди, сухой и жесткий кашель. Врач, лечивший его, высокий кареглазый русский человек, сказал, что несколько дней Дадоджон находился между жизнью и смертью, а когда дело пошло на поправку, велел не обольщаться: сильны и опасны остаточные явления.
— Придется еще полежать дней десять, — прибавил он.
— Но у меня заявление в военкомате, — взмолился Дадоджон. — Принесут повестку, а я тут прохлаждаюсь. Опять отсрочка?
— Ничего страшного. Больных в армию не берут. Все равно не миновать нас: к нам направляют на комиссию.
— Мои товарищи давно уже на фронте, одному мне почему-то отсрочка, — горестно вздохнул Дадоджон, терзаемый своими тяжкими думами.
Врач, ничего не знавший об этих думах, улыбнулся.
— Всякое бывает, — сказал он, — не надо огорчаться. Наступит час, призовут и вас, и меня.
— И вас? — удивился Дадоджон.
— Там мое место, там, — вздохнув, произнес врач и опустился на табурет возле койки. — Сердце, говорят, у меня пошаливает… потому и не берут. А оно кровью обливается, мое сердце, оттого и болит. Как представлю раненого, искалеченного бойца, который ждет моей помощи, так и хватаюсь за сердце…
Помолчали.
— Ладно, — сказал врач, вставая, — не будем отчаиваться. Будем исполнять свой долг, ремонтировать пока таких молодцов, как вы. Вера в себя, говорят, — половина победы.
— Да, смелого пуля боится…
— …и штык не берет, — засмеялся врач. — Хорошая песня, мудрая! — и он ушел из палаты.
Через десять дней Дадоджон вышел на работу и вновь окунулся в многообразие дел, однако горькие думы, вызванные отсутствием повестки, изводили его все сильнее и острее. Однажды ему приснился Ислам, он был в военной форме, суровый и гневный. «Я, — сказал он, — убил твоего отца, расстрелял как проклятого басмача, как презренного врага народа. Я приказал не брать тебя в армию, не давать тебе в руки оружия. Я знаю твою подлую душонку: взяв наше оружие, ты переметнешься к врагам!»
Дадоджон проснулся в холодном поту. Все, о чем он думал, ощущая себя отверженным, словно бы раскрылось в этом сне. Значит, и вправду его не призывают из-за отца? Может, поэтому и не доверили более высокой работы? Неужели так и жить ему с клеймом сына врага народа, нести бремя проклятой отцовской вины и отцовской крови?
«Но ведь сын за отца не ответчик, не хочу я жить с кровоточащей раной в груди, доверьте мне, и я оправдаю ваше доверие, я буду работать и сражаться достойно, как вы, и даже лучше, чем вы, смелее, храбрее… Поймите же, я ваш и с вами!» — кричал Дадоджон в мыслях.





