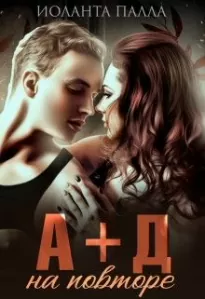Дальняя гроза

- Автор: Анатолий Марченко
- Жанр: Военная проза / Советская проза
- Дата выхода: 1987
Читать книгу "Дальняя гроза"
— Русский.
— А кто отец, мать?
— Отца нет. Отчим. Оба — учителя.
— О, культурная семья! Приятно беседовать с человеком из культурной семьи. Хорошо. Что ты думаешь о немецкой нации?
— Сейчас ничего хорошего не думаю, — угрюмо ответил Вадька, сжав ладони до хруста в пальцах.
— Почему?
— Так ведь ежу понятно. Мы же вас не звали в гости. А вы пришли. И не нападали на вас. А вы — напали.
— На планете не могут существовать два диаметрально противоположных строя. Один из них должен быть уничтожен. Тот, который слабее и не имеет будущего. Ваш строй. В борьбе за существование он не может одержать победу. Почему? Вы — общество донкихотов. Нация, состоящая из людей, которые обладают крайней чувствительностью и патологической страстью к состраданию. Я бы сказал, что вы не просто сострадаете, вы исступленно сострадаете. Вы все время жаждете кого-то спасти, кому-то помочь. Вы ринулись спасать Испанию, Абиссинию. Потом — Монголию. Зачем? Сострадание — это слабость души, ее позор. Это гибель для нации. Человечество ценит только силу и могущество. Диктатуру хорошей дубинки. Тогда оно безропотно повинуется тем, кого история избрала быть повелителями. — Он расслабился, наслаждаясь произведенным впечатлением. — Еще вопрос: как ты оцениваешь немца как человека?
— По-разному, — решительно ответил Вадька. — Есть немец Фридрих Энгельс. И есть немец Адольф Гитлер.
— Диалектика? — несмотря на прямоту Вадьки, Галингер не поступился ни малой долей своего оптимизма и не раздражался. — Я знаю, русские думают о нас как о варварах. Да, мы разрушаем все, что должно быть разрушено. Мы сжигаем на кострах книги Толстого и Гете. Для того чтобы, преодолев нижний уровень культуры, разжижающий человеческий мозг и порождающий слюнтяйство, создать культуру высшего порядка. Я сам бросал эти книги в костер и наслаждался тем, как огонь пожирал ядовитые страницы. Чтобы родились новые книги, в которых нет самоистязаний, сомнений и слякоти. Кто способен страдать и проливать слезы — тот не имеет права на жизнь. Копание в собственной душе приводит к параличу воли. Мы противопоставляем этому стальную решимость! Ваши книги хотят научить людей быть героями. Чушь! Для этого нужно прочесть всего две книги: Библию и «Майн кампф». Было время, когда я тоже пытался сострадать. Плакал, читая о Неточке Незвановой. Теперь я презираю себя за это. И вытравил ржавчину из души. — Он ослепительно улыбнулся, как бы показывая, что совершенно здоров, и отсвет горящего фитиля скользнул по его глянцевито сверкнувшим крепким зубам. — Однако у меня осталось совсем мало времени. Меня интересует и такой вопрос: твоя любимая книга?
— «Разгром» Фадеева, — не задумываясь, ответил Вадька.
— Да, я читал. А любимый образ? Левинсон, Метелица, Мечик?
— Мечик? — удивленно переспросил Вадька. — Вы это серьезно?
— Почему нет? Сложная душа, дух противоречия, нравственные метаморфозы...
— Вот именно, метаморфозы, — не дослушав, язвительно, едва ли не передразнивая Галингера, сказал Вадька.
Он сидел, обреченно опустив голову, лишенный сейчас каких-либо желаний, кроме одного — чтобы поскорее кончалась эта комедия, которую Галингер называет беседой. Захотел исповеди? Неужели ему и без того не ясно?
— Значит, Левинсон? Или Метелица? — не столько спрашивая, сколько утверждая, произнес Галингер. — Ну, хорошо, вы все учились на таких книгах, и чего же вы достигли? От первого нашего удара Советы рассыпались как карточный домик. И скоро будут окончательно повержены в прах. Славянская душа способна лишь на самоистязание, на бесплодные поиски истины, на вечное рабство у совести. Мой знакомый офицер рассказал такой факт. Один молодой русский пехотинец, совсем еще мальчишка, во время боя пытался своей шинелью сбить пламя на вспыхнувшем комбинезоне раненого немецкого танкиста. Танкист выжил, а русский погиб, потому что получил пулю от спасенного. Я не могу понять этого русского. Как это следует классифицировать? Как бунт против железных законов войны и жизни? Как игру в героизм?
Он помолчал, ожидая, что Вадька поможет ему найти ответ, но тот молчал. Нервы его были наэлектризованы, как если бы через тело пропускали ток высокого напряжения.
— Не надо играть в героев, — наставительно продолжал Галингер. — Ты назвал себя комсомольцем. Хотя мог бы скрыть. Почему не скрыл?
— Такое не скрывают, — сердито ответил Вадька, удивляясь непонятливости Галингера.
— Но какой же ты комсомолец? Комсомольцы в плен не сдаются. У тебя нет даже легкого ранения.
— Да, я опозорил честь комсомольца, — не столько Галингеру, сколько самому себе спокойно сказал Вадька. — Правда, у меня не было оружия. Но это не оправдание.
И снова его обожгла мысль: был пистолет, но он оставил его лейтенанту Каштанову, которого обещал не бросить. А выходит, бросил!
— Наполеон, — как бы рассуждая с собой, сказал Галингер, — перед отъездом на Эльбу решил покончить с собой. Он принял яд, корчился в адских конвульсиях и кричал: «Как трудно умирать! Как легко было умереть на поле битвы!»
— Он абсолютно прав, хотя и Наполеон, — прокомментировал Вадька.
Ему вдруг пришла на память когда-то очень поразившая его мысль Толстого, что жизнь человека — это приготовление к тому, чтобы достойно встретить смерть.
— Какие явления жизни ты оцениваешь со знаком плюс и какие — со знаком минус?
Вадька задумался.
— Трудный вопрос?
— Не такой уж трудный, — все более уверяясь в правоте того, что говорит, сказал Вадька. — В любом явлении есть и плюс и минус.
— О, это интересно! Ты можешь конкретизировать?
— Да, в любом. И в самом прекрасном, и в самом низменном.
— Даже в низменном — плюс?
— Да. К примеру, фашизм. Его плюс в том, что он вызывает только одно чувство — ненависть. А это побуждает к борьбе.
— Ты очень рискуешь навлечь на себя мой гнев. За такие слова отправляют на эшафот.
— Или, к примеру, то, что я попал к вам в плен, — словно не расслышав этого предупреждения, продолжал Вадька. — Тоже есть плюс. Лично для меня. Я смог узнать, кто такие фашисты. Не из книг — из своего опыта.
— Не будем продолжать эту опасную тему. Я могу выйти из терпения. Вилли уже бы пристрелил тебя.
Галингер взглянул на часы и с сожалением развел руками.
— Последний вопрос, — сказал он, вставая, и теперь его лицо едва просматривалось — свет лампы не доставал до него. — У тебя есть просьбы?
— Одна, — торопливо ответил Вадька, боясь, что капитан уйдет, так и не услышав его желания. — Скажите, как зовут вашего переводчика?
— Переводчика? — оживился Галингер, будто Вадька сказал что-то приятное. — Это Вилли его раскопал. Имя... имя... Вертится на языке. Впрочем, если хочешь, я сейчас его пришлю. Это умный парень, умеющий оценивать обстановку. Он нигде не пропадет! Думаю, ты последуешь его примеру. Все, чем ты жил, во что верил, — все исчезло. Ты живешь мифом. Не надо жить мифами! Не надо играть в героев!
Неожиданно в класс ворвался Кранценбах. От его порывистого движения возник ветерок и с кнопки, шурша по стене, сорвался верхний край географической карты.
— Отто, хватит, я сыт по горло твоими экспериментами. Через полчаса мы выступаем. Я приглашаю тебя на легкий завтрак.
— У русских это называется «посошок на дорожку», — снисходительно объяснил Галингер, обращаясь не столько к майору, сколько к Вадьке, будто тот не был русским и не знал русских обычаев. — Хорошо. Мы продолжим беседу в подходящий момент.
Он тут же перевел все это на немецкий специально для Кранценбаха, и оба расхохотались так, как хохочут, когда услышат новый скабрезный анекдот.
Они поспешно вышли из класса, где-то в конце коридора постепенно утихли их громкие и четкие, как на строевом плацу, шаги, и Вадька обернулся к двери, все еще не веря, что в нее войдет Кешка Колотилов.
Когда кто-то появился в проеме двери, Вадька понял, что вошел тот самый переводчик, но теперь он вовсе и не был похож на Кешку. Он неслышно, будто подплыл, приблизился к парте и произнес точно таким голосом, какой каждый день звучал на уроках и на переменках в средней школе, что на Степной улице:
— Здравствуй, Вадька!..
Вадька отшатнулся от него, как от прокаженного. Уже очень давно, с той минуты, как он сел в эшелон на нальчикском вокзале, его никто не называл этим ребячьим именем. Даже друзья, надев военную форму, еще там, в роте писарей, стали величать его Вадимом. Величал и Кешка. Хотя их великий начальник и уставник — ефрейтор не терпел панибратства. И вдруг как с Марса: «Вадька...» Значит, все-таки Кешка!
— Что же ты молчишь? — нетерпеливо и горячо, вполголоса говорил Кешка. — У нас всего несколько минут.
— А я уже наговорился. Досыта, — не глядя на Кешку, ответил Вадька.
— Ты? Наговорился? Да я все через окно слышал. Ты не больше трех минут говорил. В общей сложности. Тоже мне, Спиноза. Я время засекал.
— Ты уже все подсчитал... — сожалеюще проговорил Вадька. — И все рассчитал до конца жизни.
— О чем ты? Если вот это... — Кешка дрожащими пальцами схватился за отвороты немецкого кителя, — так это... — он зашептал Вадьке в самое ухо, — это маскировка.
У меня пока не было выхода. Я собираю ценные сведения. Сколько танков, орудий... И смогу передать нашему командованию...
— Когда? — Вадька отстранился от горячего дыхания Кешки. — Когда они у стен Москвы окажутся?
— И ты соглашайся, — уже громче, настойчивее заговорил Кешка. — Иначе — расстрел. Они не чикаются. А кому мы нужны мертвые? Это самое страшное.
— Самое страшное не это, — задумчиво сказал Вадька.
— Что же?
— Вот так, по-дурацки, погибнуть. Ничего не сделав для победы.
— Победы?! — Выпуклые глаза Кешки отражали желтое пламя лампы и потому тоже казались желтыми. — Ты что, слепой? Это же нашествие! Это же как Чингисхан! Украина у них, Белоруссия, скоро — Москва.
— А Москву ты не трогай, — непримиримо сказал Вадька. — Не трогай Москву. Увидишь — звоном началось, звоном и кончится.
Кешка пытался сесть за парту рядом и даже обнять Вадьку за плечи, но тот вырвался и вскочил на ноги.
— Не смей, или я ударю тебя, — глухим, неузнаваемым голосом предупредил Вадька. — Силы у меня нет, но все равно ударю.
— Неужели ты все еще не понимаешь самой простой истины? Уже нет прошлого. Его не вернешь. Разве вернешь то, что было тогда, на Урвани? Нет будущего. Потому что мы ничего не знаем о нем. Разве я мог даже предположить, что попаду в плен? Есть только настоящее, только вот этот миг. И ничего больше!
— Я помню: ты был паяцем. Был циником. Но что-то не помню, чтобы ты был философом.
Кешка хотел возразить ему, но в этот момент в классе появились Кранценбах и Галингер.
— Хорошего понемножку! — почти пропел Галингер. Видимо, «посошок на дорожку» еще более взбодрил и воодушевил его. — В заключение один эксперимент! — торжественно объявил он. — Я заключил пари с майором Кранценбахом. Блицурок немецкого языка! Тебе, — он ткнул пальцем в Кешку, — и тебе, — такой же жест в сторону Вадьки, — надлежит написать одну и ту же фразу на немецком языке. Вот мел. Прошу к доске!
Кешка взял кусочек мела и встал у доски, как это часто бывало и там, в средней школе на Степной, на втором этаже, в классе, что в конце коридора, налево.