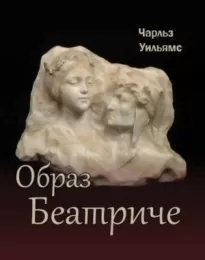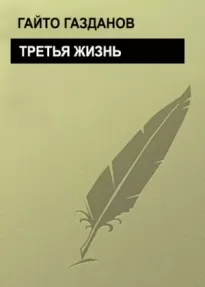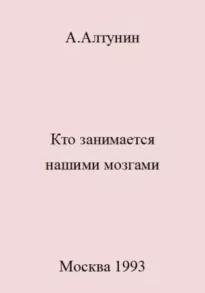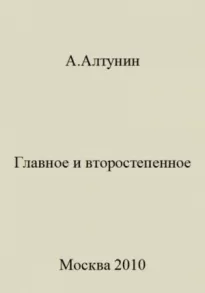Социалистический реализм: превратности метода
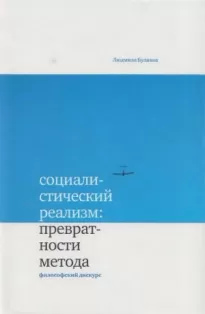
- Автор: Людмила Булавка
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Социалистический реализм: превратности метода"
Принцип разотчуждения, лежащий в основе как метода соцреализма, так и его искусства, по сути, есть творческий акт, процесс опредмечивания — распредмечивания (кстати, осуществляемый как режиссером, так и зрителем). В искусстве он всегда проявляется и как создание конкретного образа разрешения этической коллизии конкретным художником. Это, в свою очередь, требовало не просто индивидуальной окраски, но именно авторского стиля (5).
Действительно, разрешение противоречий, будучи особым видом творчества, непременно осуществляется только как личностный акт и потому имеет сугубо персонализированный характер выражения. Персоналистский характер разотчуждения как раз и выступает одним из родовых признаков творческой природы метода соцреализма.
Многие исследователи сходятся на том, что образы соцреалистического искусства утверждающе несут в себе идеи преобразования действительности. Но ведь, как писал М.Бахтин, «всякое принципиальное отношение носит творческий, продуктивный характер»[165]. И действительно, здесь мы видим двойное утверждение творческого принципа бытия: со стороны автора произведения и его героя (то, что касается зрителя, об этом чуть ниже). Одним словом, принцип творчества (6) является центровым и сквозным в сущности искусства соцреализма. Неслучайно М. Горький подчеркивал, что «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество...»[166].
Но даже признание принципа разрешения противоречий в качестве смыслообразующего для понятия «соцреализм» еще не подводит к окончательному пониманию его сущности. Здесь имеется в виду то, что признание за соцреализмом в качестве главной идеи принципа творческого преобразования действительности в то же время рождает такой вопрос: в чем заключается метод преобразования самой этой действительности. Именно этот вопрос определяет степень принципиального различия подходов и взглядов на проблему соцреализма. Вот как, например, видит решение данного вопроса известный ученый Г. Недошивин: «Идеализация необязательно должна пониматься как отрыв от жизни, как ее приукрашивание. Делая образ значительным, подчеркивая в нем ведущие моменты жизни, художник в своем произведении как бы преобразовывает действительность, давая определенные образцы для подражания. И в конечном счете творчество художника именно как творчество и заключается в том, чтобы заставить жить в своем произведении такую жизнь, какой она должна быть по нашим понятиям»[167].
Вот почему применительно к процессу разотчуждения вопрос «как» является принципиально значимым, ибо сам способ снятия противоречия как раз и определяет содержание его результата. Актуальность вопроса «как» обусловлена конкретностью самого предмета, т.е. конкретностью того противоречия, о снятии которого и идет речь. Конкретный характер противоречия диктует и конкретный подход к его разрешению, что, в свою очередь, востребует от его субъекта (художника) соответственно и конкретный образ его снятия.
Важность и актуальность вопроса «как» привнесена в соцреализм самой логикой социального творчества 20-х гг., где этот вопрос имел первостепенное значение и из которого генетически вышел данный метод. Актуальность проблемы метода в этот период как раз и характеризует первый послереволюционный период как творческий, причем не только в сфере культуры.
Этот момент отмечает и В. Паперный в своей книге «Культура Два»: «Для культуры 1 чрезвычайно значимым был вопрос “как”... Вопрос “как” стоит и за тем пытливым интересом, с которым культура 1, подобно ребенку, расковыривающему куклу, вскрывает мощи святых (СУ, 1920, 73, 336)»[168]. И далее автор приводит примеры, иллюстрирующие актуальность данного вопроса в разных сферах творчества культуры Один: «Давно уже известно, что важно не что, а как (Н. Бурлюк)»; «Основное, что остается в архитектуре — как делать все это (В. Кринский)»; «Этот же вопрос можно считать основным и в деятельности ОПОЯЗа (ср. «Как сделана “Шинель” Гоголя»)»; «Он занимает Маяковского» (ср. “Как делать стихи?”)»[169].
«Основное» же течение советской культуры предполагает, что разотчуждение как результат, взятый сам по себе, еще не является его собственной родовой характеристикой, оно присуще и другим типам культуры. Особенность искусства соцреализма состоит в другом: в обязательной и неразрывной связи как процесса, так и самого результата разотчуждения. Мало показать результат разотчуждения; в искусстве соцреализма он должен быть неразрывно связан еще и с самим процессом, а значит, и с его субъектом.
Это диалектическое единство (1) процесса, (2) субъекта и (3) результата разотчуждения и становится неким универсальным «modus operandi», который транслируется на все уровни культуры, определяя архитектонику того, что связано (1) с созданием и (2) восприятием художественного произведения, а также (3) с самим его драматургическим строем.
На этом единстве, кстати, как раз и взошел феномен советского кино, пронизанный диалектическим единством художника, киногероя (= актера) и зрителя. Об этой связи в природе театрального искусства С. Эйзенштейн писал следующее: «Итак, искусство (пока на частном случае театра) дает возможность человеку через сопереживание фиктивно создавать героические поступки, фиктивно проходить через великие душевные потрясения, фиктивно быть благородным с Францем Моором, отделываться от тягот низменных инстинктов через соучастие с Карлом Моором, чувствовать себя мудрым с Фаустом, богоодержимым — с Орлеанской Девой, страстным — с Ромео, патриотичным — с графом де Ризоором; опрастываться от мучительности всяких внутренних проблем при любезном участии Карено, Брандта, Росмера или Гамлета, принца Датского.
Но мало этого! В результате такого «фиктивного» поступка зритель переживает совершенно реальное конкретное удовлетворение»[170].
В рамках советского искусства, и в частности советского кино, этот зрительский эффект получает свое качественное развитие. Дело в том, что искусство соцреализма — это искусство скачка, перехода. Поэтому оно отражает не наличное состояние действительности, а само движение ее перехода из одного состояния в другое. Увидеть действительность как «зримое» — это, значит, определить конкретный момент на пути становления его родовой сущности, т.е. понять меру и качество ее развития в данный момент истории. Поскольку же содержанием этого движения является процесс разрешения действительных противоречий, постольку в результате возникает (1) эффект движения самой реальности, т.е. самой жизни как процесса. Кроме того, надо учитывать и другое обстоятельство. Развертывание процесса разотчуждения, причем не просто «на глазах почтенной публики», а (и это очень важно) в таком временном модусе, как present continuous, объективно вовлекает зрителя непосредственно в художественную логику самого процесса, создавая (2) эффект его личной причастности и, более того, его личного со-участия в драматургии. В этом случае зритель не просто пассивно отражает фабулу фильма, а, включаясь в поисковое состояние героев (это также провокативно, как, находясь за спиной играющих шахматистов, не включаться в их поединок), пытается вместе с ними, но по-своему и активно решить их (а вообще-то свои) этические проблемы. Тем самым зритель перестает быть зрителем — он становится со-героем данной киноистории.
Этот важнейший момент был подмечен еще С. Эйзенштейном: «Образ, задуманный автором, стал плотью от плоти зрительского образа... Мною — зрителем — создаваемый, во мне рождающийся и возникающий. Творческий не только для автора, но творческий и для меня, творящего зрителя»[171]. «Сила монтажа, — писал режиссер, — в том, что в творческий процесс включаются эмоции и разум зрителя. Зрителя заставляют проделать тот же созидательный путь, которым прошел автор, создавая образ. Зритель не только видит изобразимые элементы произведения, но он и переживает динамический процесс возникновения и становления образа так, как переживал его автор. Это и есть, видимо, наибольшая возможная степень приближения к тому, чтобы зрительно передать во всей полноте ощущения и замысел автора, передать с “той силой физической ощутимости”, с какой они стояли перед автором в минуты творческой работы и творческого видения.
...Уместно вспомнить о том, что как Маркс определял путь истинного исследования: «Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным. Исследование истины само должно быть истинно, истинное исследование — это развернутая истина, разъединенные члены которой соединяются в результате» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч. т. I. С. 113)»[172].
Логика монтажного сцепления кадров (и кино С. Эйзенштейна это показало в полной мере) реально воспроизводит логику разрешения противоречий, в ходе которой как раз и осуществляется становление образа сначала режиссерского, потом — зрительского. Здесь происходит не препарация движения, не разделение его на отдельные физические фрагменты, а именно становление образа, т.е. развитие.
Вот что пишет об этом великий кинодиалектик: «Что же примечательного в подобном методе? Прежде всего его динамичность. Тот именно факт, что желаемый образ не дается, а возникает, рождается»[173].
Итак, диалектический (у С. Эйзенштейна — монтажный) метод позволяет превращать зрителя в субъекта со-творчества, о чем и писал великий кинорежиссер и теоретик кино: «...именно монтажный принцип в отличие от изобразительного заставляет творить самого зрителя и именно через это достигает той большой силы внутренней творческой взволнованности у зрителя, которая отличает эмоциональное произведение от информационной логики простого пересказа в изображении событий. Такое кино, будучи реально “движущейся картинкой”, рождает ощущение настоящей жизни, иной раз более достоверной, чем сама действительность»[174].
В значительной степени этим объясняется неизбывная привлекательность советского кино, сохраняющая свою силу до сих пор. Об этом же говорит и Сергей Юрский: «Кино было частью жизни. Фильмы смотрели по многу раз, про фильмы говорили, фильмы цитировали, героям фильмов подражали. Компании образовывались и делились по принципу симпатии к тем или иным фильмам. “Толстые” литературные журналы были частью жизни интеллигенции. Кино было частью жизни всего народа»[175].
Через кино индивид проживал по-настоящему, хотя и в идеальной форме, свою субъектность во всем богатстве ее граней. Понять, когда кончается кино, а когда начинается жизнь, было не так просто. «Едва ли не самое поразительное в таких образах, — писал А.И. Морозов, — отсутствие грани, барьера между “нашим сегодня” и чаемым “завтра”».[176]
Сила и неизбывность этого эффекта, возникавшая всякий раз при просмотре одного и того же фильма, составляла основу, с одной стороны, притягательности советского кино, а с другой — нескончаемого потока идеологических и культурологических комментариев по поводу него.
Чем состоятельнее был художественный образ движения, тем более убедительным представлялось само это движение. Становление образа в киноискусстве соцреализма происходит как развертывание художественной идеи в каждом кадре фильма, в каждом его художественном моменте.