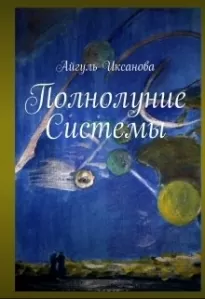Профили
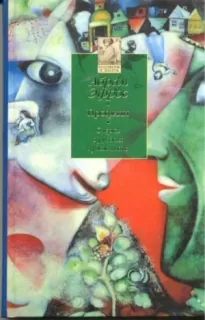
- Автор: Абрам Эфрос
- Жанр: Критика / Искусство и Дизайн
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Профили"
В этом грехе ранний Кузнецов в немалой степени повинен. Он был еще достаточно неискушен, чтобы удовольствоваться одним тем важнейшим фактором, что его видения им выражены, что их можно признать и принять, что его каскады струятся, младенцы спят у водоемов и радужное марево окутывает их; дальше он не шел. Загляните внутрь этих его полотен, пробегите по их поверхности, – вы увидите, как равнодушен художник к интимной жизни мазка, к сокровенностям живописной кухни. Кузнецов не знает этого сладострастного танца кисти, когда кружевом развертываются вариации мазков, отличных в своей слоистости, направлении, размере, жирности, легкости, стремительности, увесистости, чистоте, смешанности, когда глаз зрителя плывет как бы по зыби красочного моря. У Кузнецова красочное месиво ложилось однообразно, мазок в мазок и мазок к мазку, и если у гурманов палитры надо уметь замечать их живописную стряпню, то у Кузнецова надо было уметь ее не видеть.
Но в степях его мастерство напряглось как струна. Эта степная жизнь, тесная, неразбрасывающаяся, жаркая, многоженная, многодетная, многостадная, плодоносящая, рожающая, вскармливающая, – эта жизнь, давшая, наконец, Кузнецову тот быт, о котором нам на ухо, захлебываясь, пришептывал Розанов и который сам художник когда-то беспомощно пытался вылущить из московской суетни, – заставила Кузнецова тверже взять в руки уголь и кисть и более властно подчинить себе полотно.
В его картинах появился ритм. Линия горизонта, прорезывая холст, уравновесила пространства степей и небес, и на обоих, следя друг за другом и как бы друг в друге отражаясь, стали вычерчиваться сдержанные контуры облачных масс и земных предметов. Подымаясь или опускаясь, линия степного горизонта закономерно усиливала преобладание одной из обеих частей, и тогда ее красочный ряд и линии давали норму и тон целому. На степной половине – ритмический ключ обычно находится в контурах кошары: ее полукружие ведет за собой овальные купы деревьев, повторяется в изгибах молящихся и работающих людских фигур, дробится в округлости очертаний щиплющих траву овец и подчеркивается в дугах, образуемых горбами и шеями верблюдов; а на половине небесной – идет параллельная игра облачных рядов, скрепленная с нижнею частью композиции простыми и ясными отношениями. То же происходит и в сфере краски: основу дают взаимоотношение, сила и чистота цветных плоскостей земли и неба, и на этой канве развертываются ряды вариаций и контрастов, приносимых изображенными предметами. Кузнецов стал крайне лаконичен и прост. Ни схема контуров, ни цветовые гаммы не преследуют хитро рассчитанных эффектов; к трем-четырем основным направлениям и тонам легко сводится сложнейшее из этих кузнецовских полотен. Все в них обобщено, все насыщено цветом, все плоскостно, все декоративно, – и по умению ударить этим по зрителю нет у нас сейчас более прелестного и совершенного художника, нежели Кузнецов. Разумеется, главным орудием кузнецовской живописи теперь становится клеевая краска, ибо ее ровно и жидко ложащийся слой более всего отвечает плоскостности композиции, а необыкновенная сила цвета – задачам декоративности. Но поэтому же в большинстве случаев тем самым снимается теперь с очереди вопрос о достоинствах кузнецовской живописной кухни: свойство темперы – скрывать удар кисти и мазок.
Однако в тех нередких случаях, когда Кузнецов пишет маслом, к его полотнам уже не лишне подходить вплотную: его кисть уже играет, играет сознательно и расчетливо, располагая красочное месиво дисциплинированным и чутким строем.
8
В искусстве европейских стран ориентализм всегда был только побочным ребенком от непостоянного отца и случайной матери. На языке классических аналогий есть хорошее сравнение для этих бурных, но недолгих, хоть и повторяющихся припаданий к Востоку: так Чайльд Гарольд и Дон Жуан заключали в свои байронические объятия алжирских и турецких пери – Зюлеек, Гюльнар, Лейл и Гайдэ. Не знаю, может быть, современность предпочтет образ более близкий и разрушительный – образ Бодлера и его креолки; пусть так, – однако это прибавит ориентализму Европы лишь остроты и напряжения, но отнюдь не законности. В западном искусстве ориентализм во всяком случае только эпизод.
С Россией могло бы быть иначе. Страна в такой же степени азиатская, как и европейская, представляющая единственную в мире золотую арену, где уравновешенно пересекаются Восток и Запад, – должна бы она, казалось, дать Востоку подобающее место в своей эстетике и в своем творчестве. Но будем искать: где он, этот ориент, в истории русского искусства. Не следы же татарщины брать в свидетели органичного проявления этих восточных свойств его души и, разумеется, не беглые борозды восточных влияний, когда-то наблюдавшиеся в нашем старом народном творчестве – в его шитье, постройках, лубках и игрушках. Русское искусство вправе было бы предъявить Востоку притязание на кое-что большее.
Нужно признаться: мы разделили судьбу Запада; в нашем искусстве Восток – тоже лишь эпизод. Но только, как всегда, мы и здесь комичнее Запада, ибо беспомощнее. В особенности ориентализм нашего нового искусства имеет совершенно своеобразное происхождение, такое же, как иные из наших дворянских родов. Он пошел от тех самых черных арапчат со сверкающими белками глаз и ало-красными выпяченными губами, которые с петровских времен на парадных портретах высовывают из-за помпезных фигур царей и вельмож свои круглые головы. На протяжении полутораста лет история русского ориентализма есть не что иное, как история портретных арапчат, где вехи исторической эволюции отмечены изменениями в фасонах их халатов и тюрбанов соответственно вкусам сменяющихся царствований. Эта линия арапчат тянется от Адольского или Растрелли к Брюллову и от Брюллова к стилизаторским жеманностям Бенуа и его друзей, у которых арапчата подсматривают за купающимися маркизами и размахивают опахалами над вислыми животами и кручеными носами балетных султанов.
9
Когда от подобных родителей появляются такие подлинные ориенталисты, как Кузнецов или как Сарьян, значение происшедшего переворота очевидно само собой. Тяга на Восток впервые получает в их искусстве осмысленность и силу; с Азией наконец-то перестают играть в детские прятки; больше того, русские художники отказываются от совершенно невыносимой роли знатных туристов, с Куком и «кодаком» прорезывающих Восток ради сочинительства нескольких надменных глав о курьезах азиатского быта.
Кузнецов и Сарьян – первые из наших художников, для которых Восток есть родина. В этом – весь смысл того, что они дали русскому искусству. Но Кузнецов примечательнее Сарьяна. Тот пришел к нам с Востока, как туземец, как житель той страны, лишь перелагая в цвета и краски то, о чем пела его восточная кровь. Восток Сарьяна настолько специфичен, что, если бы русское искусство получило в качестве ориентализма такую, сарьяновскую, окраску, это было бы ничуть не менее парадоксальным, нежели та, прежняя, линия арапчат; это значило бы, что искусство внезапно, с головы до ног, перекрасилось в азиатские цвета. Сарьян напоминает тех бродячих торговцев – персов или бухарцев, которые прельщают нас на улицах вязками восточных материй и побрякушек. Его картины так же увлекательны и цветисты в своем ориентализме, так же естественны в своей роли для нашей жизни, но и по сути – столь же далеки от настоящей природы русского искусства.
Кузнецов, как коренной, почвенный человек, поступил иначе: он на Восток пошел добывать все, чем манит Азия, но он не потерял при этом меры вещей. Он пришел как свой человек, как друг, но не скрыл своего чужого обличья, не разыгрывал маскарада и не отрекся от самого себя. А это и есть самое трудное. У Кузнецова были знаменитые предшественники вроде Верещагина, которому нельзя отказать ни в трудолюбии, ни в техничности. Но, по справедливости, есть ли в нашем искусстве что-либо более ненужное, нежели те сотни восточных этюдов и картин Верещагина, которые когда-то отнимали несколько зал у Третьяковской галереи? Верещагин – противоположный Сарьяну полюс – слишком старался подчеркнуть, что он культурный европеец, что он лишь проездом в этих грязных и ярких азиатских странах, что он не ест руками и не вытирает губ о полу пестрого халата. Высокомерием и непониманием самой сути Востока запечатлена каждая проба верещагинской кисти. Что же, история русского искусства отомстила Верещагину справедливым осуждением его «раскрашенных диапозитивов», предоставив их в полную собственность почтенной этнографии.
Но вот Кузнецов: о том, как осторожно выверял он свои отношения к Востоку и как усердно искал той золотой точки, которая дала бы ему равновесие между восточными и европейскими элементами его искусства, свидетельствует история его поездки в Бухару. Он двинулся туда, чтобы окунуться в самую гущу того, что в отраженном, умеряемом и переиначенном виде давали ему киргизские степи. И будь он одним из салонных экзотиков столичных кружков, чего большего мог бы он желать, нежели то павлинье сверкание и базарный шум, которыми встречает путешественника Бухара? Но замечательно: Бухара пришлась Кузнецову решительно не по вкусу; это был экзотический Восток, чрезмерный в проявлениях своих восточных свойств; там он почувствовал себя сразу чужаком – и, потолкавшись и оглядевшись, поспешил уехать назад.
Бухарская сюита картин, появившаяся на «Мире искусства» 1913 года – «В горной Бухаре», «Бухарский профессор живописи», «Чаи-Ханэ», «Принцесса Харта» и др., – рассказала нам, как своеобразна и красива Бухара и как равнодушен к ней Павел Кузнецов. Куда ушел его молитвенный подъем, его влюбленный экстаз? В иных картинах Кузнецов стал даже перед наихудшей опасностью: красивость, эстетическая смазливость готова была заменить прежнюю, настоящую красоту его степных полотен. И, спасаясь как бы от наваждения, он опять – и уже накрепко – вернулся к любимым степям.
Прекрасная чуткость художника! И все же, когда я спрашиваю себя, есть ли Кузнецов тот мастер, который разрешил «восточную проблему» в нашем искусстве, нашло ли его творчество спасительную меру соединения западных и восточных начал, – как ни дорога мне слава моего героя, – я не отважусь ответить утвердительно. Если в ряду наших ориенталистов Верещагин и Сарьян оказываются на прямо противоположных концах, то Кузнецов вовсе не срединная точка. Он стоит где-то на полпути к ней. Он все-таки слишком азиат для корневого и почвенного русского ориентализма. Даже в замечательных nature-morte’ах Кузнецова, которые ближе всего подходят к желанной цели, ибо в их мощно и пышно раскинувшиеся формы художником искусно вкраплены звонкость, веселость и яркость русских народных изделий, которыми так блестяще пользовался еще Сапунов для своих злато-синих ваз, – даже в этих кузнецовских композициях есть только намек на должное, и в них Кузнецов – только предтеча, искра мимолетящая.
10
Художественные родословные стали сложны и внушительны. «Такой-то, ученик такого-то» – где теперь встретим мы эту пленительную простоту отношений между сменяющимися поколениями художников? Историки искусства плетут для своих героев родословные узоры замысловатее, чем это делали когда-то составители генеалогических древ, чтобы подбить благородной старинкой чье-нибудь свежее дворянство. Искусствоведы способны раздавить нас вавилонскими башнями своих построений, в которых века, народы, мастера и ремесленники искусства заплетаются в жгуты и кружочки, чтобы стать подпоркой Менцелю, Сезанну или Гейнсборо!