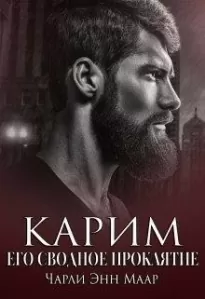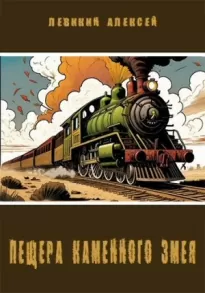Дар Изоры
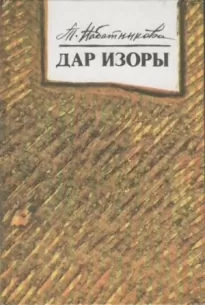
- Автор: Татьяна Набатникова
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 1991
Читать книгу "Дар Изоры"
Я стал на место.
Я пошел, принц датский, вспоминая, как это было: бегаешь со всеми стаей — в лагере, на перемене, во дворе — пинаешь мяч, и все пацаны как пацаны, у каждого лишь та цена, какую придают ему быстрота ног и точность удара. Ну, еще смелость. А ты — сынок. Ты чужой среди них. Ты мчишься с ними к вожделенному мячу, ты тоже хочешь быть только тем, что ты есть — протоплазмой человечества, из которой разовьется его организм. Но тщетно ты прикидываешься протоплазмой, тщетно стараешься внушить им забвение того, что ты — «сынок». Из всех мальчишек повырастает черт знает кто: шоферы, летчики, футболисты, налетчики, бандиты, герои, станочники, писатели и начальники — они сейчас равны перед судьбой. Тебе же не быть ни летчиком, ни налетчиком. Тебе — филологом, ихтиологом, социологом, психологом, ну юристом. И хоть ты тресни, ты чужой: стартовые условия у тебя другие, ты живешь не в бараке и отец у тебя не пьяница. Клеймо приличного человека с рождения на тебе.
Ей-богу, я дружил с Феликсом завистливо. Выбираясь из глубины первоначальных условий, он набрал уже такое ускорение деятельности, что-мне не догнать его никогда. Закон жизни таков, что, если ты не работаешь каждый день до полного износа сил, тебя обходят те, кто работает. Каждый новый день наращивает разрыв между вами.
Отец Феликса, жалко-заносчивый пропойца, отовсюду изгнанный, на любой работе или завирался, или заворовывался — причем по мелочам, не было у него никогда по-настоящему ни денег, ни силы, была только нарастающая злоба против существующего порядка, но эта злоба тотчас готова была соскользнуть в заискиванье при малейшей надежде поладить с «советской властью», которую он без мата не произносил.
Мой-то отец, наоборот, всегда ее по имени-отчеству: не обком, например, а исключительно «областной комитет партии». «Пап, почему ж тогда не областной комитет Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик, а?», на что он гневно: «Ты много себе позволяешь!» — и снова: «районный Совет депутатов трудящихся», а уж Политбюро, в любом разговоре, возможно даже в мыслях, только Михаил Сергеевич Горбачев, без малейших орфоэпических сглаживаний. И с начальством своим когда по телефону разговаривает, через слово величает по имени-отчеству. Точно так вел бы себя отец Феликса, окажи ему судьба благоволение. Абсолютно так же. И, значит, мой отец, окажись он на месте Феликсова отца...
Но вот повезло ему, он не оказался на таком месте.
Мне было лет двенадцать, и отец взял меня на первомайскую демонстрацию, стоять на трибуне. Не на самой главной, а сбоку. На главной он еще тогда не стоял. А я раньше на демонстрации не ходил и представлял себе: там, на центральной площади, тротуары запружены людьми, они радостно глазеют на шествие, а шествие красуется перед ними, дети на плечах сидят, и все кругом в музыке и смехе — так в кино показывают. Оказалось, ничего подобного. Центр города был мертв и с утра оцеплен милицией. Откуда только в городе взялось столько милиции? Сотни три в одном оцеплении. Нас с отцом пропустили через три кордона, всякий раз требуя пропуск. Головные колонны долго переминались у входа на площадь, ожидая сигнала, носился по пустому пространству неорганизованный гул, и вот наконец грянула музыка, люди шагнули: достигли наконец трибун, на которых теснилась со своими избранными детьми избранная публика, человек двести. Для этих двухсот и шествует расфлаженная, расцвеченная толпа? И соглашается на это? Пройти долгий путь оцепленными милицией коридорами улиц, промелькнуть мимо трибуны — и все? Все закончилось? Это и было их целью? И они не понимают своего позора?
Большой дом простерся фасадом на всю протяженность площади, и все его балконы были пусты! Зато окна изнутри облеплены лицами. «Папа, почему они не выйдут на балконы?» — вскричал я почти жалобно, смертельно задетый, потому что я уже и сам догадался, что им это запрещено! Мне казалось, я бы не подчинился. Мой балкон, хочу и выхожу! А отец вдруг чванливо так, заносчиво мне ответил: «Это еще зачем! Парад, что ли, принимать?» — и усмехнулся. Мол, парад могут принимать лишь избранные. «И еще, — добавил, — есть причина. После скажу». Наверно, чтоб не перебили всю эту верхушку из пулемета. «Все, пап, я пошел домой. Насмотрелся. Хочешь — оставайся». Я надеялся, он тоже уйдет со мной (он тогда был не то, что сейчас, рангом пониже, и его присутствие на трибуне еще не было его работой) и по дороге я все скажу ему: что мне стыдно за этих идиотов, которые соглашаются и с милицейским оцеплением, и с отсутствием людей на тротуарах и шествуют без устали мимо кучки господ, гордо выпятив грудь и вопя преданное «ура».
Но отец не ушел со мной: «Неудобно: я должен тут присутствовать». Он остался, зыркал по сторонам, раскланивался со знакомыми — «здрастьте!», и я как-то вдруг разом его понял и съежился от стыда.
Милицейские кордоны с площади выпускали без пропуска.
Не можешь. А я?
Сессия. Жара. Силуэт Олеськи на просвет сквозь платье беззащитный, как скелет на рентгеновском снимке.
Спешит по перрону Феликс. Наконец-то. Мы садимся на поезд.
— Ну как, Олеся, твои экзамены? — гудит Феликс.
— Ничего, — скромно отвечает, — как-нибудь.
— Не сомневаюсь.
На этом церемониальная часть закончена, и мой доблестный друг может больше не обращать на Олеську внимания. Заработал. Никакого роста производительности труда, рассуждает мой друг, не бывает.
Олеська зубрит у солнечного окна электрички.
Потому что, говорит Феликс, станок-автомат хоть и может наклепать гвоздей в миллион раз больше, чем их ковал вручную кузнец, но зато он ковал их один, а станок-автомат делали тыщи людей: проектировщики, конструкторы, строители института и завода, на котором сделали станок, бухгалтера, которые считали зарплату строителям и проектировщикам, лесорубы, что добыли целлюлозу на ватман, металлурги, что отлили металл для станка, геологи, что нашли руду... Похоже, тот ручной гвоздь был все же дешевле.
Черемухи, сирени мелькают за окном, казенные домики полустанков, девушка осторожно перешагивает на каблучках выбоины асфальта поселкового перрона.
Наскоро мы с Феликсом приговорили технический прогресс к нулю, приступили к прогрессу духовному.
— Что-о? — презрительно негодует Феликс, разогнавшись приговаривать и его. — Какой такой духовный прогресс?
— Пьер Тейяр де Шарден, — говорю я, — полагает, что ноосфера, она же точка Омега, она же мировой дух, она же бог, есть продукт накопления и слияния всех духовных усилий, произведенных материей. То есть мы сами создаем бога, ткем эту духовную плоть, ноосферу, а она создает нас как свой источник. Впрочем, к этой модели приходят многие.
Феликс задает вопросы, Олеся зубрит у окна.
С Олесей я не смог бы говорить об этом. Но полнота счастья в том и состоит, что, говоря с Феликсом, я поворачиваю голову и вижу ее.
— Любовь, что движет солнце и светила, — вот ядерные силы, которыми держится та мировая молекула сверхсуществования. Для того она и возбуждается в мире беспрестанно.
— Красиво, — соглашается Феликс.
— При чем здесь «красиво»? Универсально!
Мы едем на дачу, я, Олеся, Феликс. Готовиться там к экзаменам.
Лежать в траве.
Щебет, шелест, шевеленье. Волосы с травой сплетает ветер. Смотреть в небо — как вниз, в колодец. В глубине его плавают белые облака небожителей.
Феликс повернулся ко мне — зрачки зеленые от травы, отраженной:
— Когда я был маленький — мать была жива, — поведет по ягоды и не разрешает садиться в траву. «Нельзя!» Почему? — ну, мне интересно. «Смотри, насидишь!» Мне уже смертельно любопытно, я уже не встану, пока не объяснят. «Встань, тебе говорят!» — как всегда, сила побеждает знание, таковы люди!.. И только гораздо позднее я узнал: змеи. Там были змеи. Но назвать их вслух было нельзя: накличешь. Понятно? Мы суеверные дикари. Мы подменяем грозные имена явлений утешительными, чтобы не накликать чертей, которые нас так страшат. Пещерная словобоязнь, а ты говоришь: дух нарастает горой, и мы уже у вершины. Какая вершина!
— И ты намерен подвергать людей этой казни: называнию вещей своими именами? — спросил я.
— Что ты, — добросовестно исповедовался Феликс. — Я намерен употребить суеверность людей себе на пользу и манипулировать ею. Я намерен даже в случае чего их обвинять в диверсии называния вещей не теми именами. Знаешь ведь, как это делается у демагогов: «Думайте, что говорите! Выбирайте слова!»
— И не побрезгуешь? — лениво, под солнцем разомлев, спрашиваю дремотным голосом. — Это же набило оскомину.
— Что-нибудь свежее мне не успеть изобрести. А это прием проверенный.
— Эх ты! Куда слаще: будить умы, возмущать, приводить в движение. Взрывать, вскрывать, взрезывать. А?
— Объявят сумасшедшим раньше, чем успеешь выпотрошить два-три гнойника сознания, — весело сказал Феликс. — Люди не любят, когда больно. Они предпочитают, чтоб страшно, но не больно.
— А если действовать осторожно, вкрадчиво, чтоб не спугнуть их с первой же минуты, чтоб не вспорхнули и не улетели?
— Тогда не подействует. Надо, чтоб было больно. А мысль в этом краю непуганых папуасов не разбудить.
— Знаешь, есть какое-то насекомое, которое откладывает яйца под шкуру животных? Корова бедная не успеет заметить укус, а в ней уже растет, растет, копошится под кожей целая колония существ, и наконец шкура лопается — бэмс! Так бы и с мыслью: усыпить их сторожевую бдительность, внедриться в их нежный ум устрашающим жалом дерзости — под наркозом, добровольно они не дадутся, ты прав.
— Наивный ты, — разочаровался во мне Феликс. — Вспомни прошлогоднюю осень: весь сентябрь лил дождь, картошка сгнила еще в земле, и весь город поднялся вручную рыть эту больную картошку в грязи под дождем, ведрами за километр носили ее к машине, потому что машине ближе не подъехать, а у каждого где-нибудь дома лежит диплом о высшем образовании или аттестат зрелости — значит, башка-то есть соображать? И машины покорно везли эту гниль в город, закладывали в хранилища — что, ты думаешь, людьми двигала материальная цель запастись продовольствием на зиму? Ничего подобного, все знали, что это не продовольствие. А цель, я тебе скажу, была скорее религиозная — знаешь, собираются язычники, идолопоклонники у капища, закалывают жертвенное животное, сжигают его в честь божества и совершают ритуальный танец. Что ты! — человек таинственное существо, он живет вне законов здравого смысла, надобно уважать его религиозную природу и только научиться ею управлять. Стать если не богом, то, на худой конец, жрецом. Просветить этих роботов нельзя! Разбудить невозможно! Можно только управлять их ритуальной пляской.
Олеська не выдержала, оторвалась от своих учебников и возмущенно сказала:
— Ты циник!!
— Вот видишь, — обратился ко мне Феликс, — стоит только произнести вслух правду, и уже циник. Как просвещать? Кого? — И повернулся к Олесе: — Благонамеренность вашей морали известна, вы пишете на транспарантах ваши священные лозунги: «не убий! — превосходно, но сам этот лозунг убийца, истребивший истину, потому что любая жизнь есть прямое и неизбежное убийство и пожирание живого! — Поглядел на меня кипящим взглядом и добавил тихо, грозно: — Я намерен, Олеся, вместе со всеми вами и даже громче вас выкрикивать «не убий». Но я при этом в отличие от вас буду трезво понимать цену этому лозунгу. Цинизм?