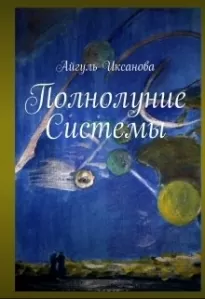Профили
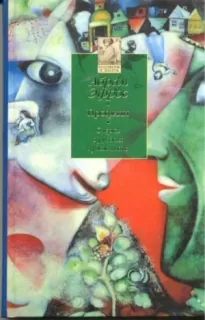
- Автор: Абрам Эфрос
- Жанр: Критика / Искусство и Дизайн
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Профили"
Усачев – самый истовый ученик Фаворского, старательный до механичности, послушный до безличия. Но он слишком старателен и слишком послушен, чтобы не возбуждать подозрения. Действительно ли он так предан и надежен, каким представляется? Сейчас нет ни одного штриха учителя, которого он не заметил бы себе и не воспроизвел бы в точности. У него как бы нет своих слов, своих интонаций и движений. Он отражает Фаворского так зеркально, что с первого взгляда его можно принять за самого мастера, пока на свету не обнаружишь идеальную копию, почти подделку. Но этот тщательно запрятанный темперамент, эта неизменная молчаливость наводят на раздумье: «Я не люблю людей, которые молчат». Когда Фаворскому придется изведать тайный удар, не эта ли рука вдруг нанесет его?
Купреянов – первый открытый бунтарь, ослушник Фаворского, разочарованный энтузиаст, громче всех клявшийся Фаворским и раньше всех отрекшийся от него, жаждущий уже новой веры, но не знающий, откуда ждать ее. Когда-то, в нескольких работах, он ближе, чем кто-либо, подошел к Фаворскому, восприняв существо его искусства с почти женской впечатлительностью. Потом он возмутился и вступил с ним в борьбу, как Иаков с ангелом. Он хотел очистить себе путь. Но, уподобившись праотцу в одном, он не достиг другого: охрометь – охромел, Фаворского же не осилил.
Масютин – благополучнейший и легкомысленнейший из имитаторов Фаворского, с независимым видом повторяющий его приемы. Его поверхностность соперничает только с его работоспособностью. Он, быть может, – лучший популяризатор Фаворского и, конечно, наибольший вульгаризатор его. Его роль тем полезнее и тем вреднее – тем двусмысленнее, – что до последнего времени он был монопольным представителем русской гравюры при западном искусстве. Только теперь стали проникать туда другие наши мастера, и лишь сейчас появляется там Фаворский. Масютин свел систему Фаворского к нескольким несложным приемам, почти к двум-трем звучным манерностям, которые просто воспринимаются и легко нравятся. Математическая, непреложная линия Фаворского свищет у него декоративным и звонким штрихом, развевающимся наподобие тещиных языков на вербном гуляньи, а первичная тяжесть граверных объемов заменена легчайшими картонажами графических конструкций. Они складываются и варьируются в зависимости от формата и сюжета, всегда равно модные и всегда равно пустые. Они используются Масютиным без остановки и устали. Он выпускает одно издание за другим. Их перечень громаден. Видимо, они нравятся; Масютин очень популярен; и это столько же свидетельствует о незначительности графических вкусов за рубежом, сколько и о громадной действенности искусства Фаворского, проникающего даже сквозь подобные призмы.
Кравченко выполняет масютинскую роль в России. Но он делает это тактичнее и медленнее. В этом сказывается большое понимание гравюры или большая осторожность к себе самому. Кравченко пришла счастливая мысль: перевести Фаворского на язык «Мира искусства». Он закрепил качание маятника на обратном размахе. Трудная, монолитная, тугая, влекущаяся вперед форма получила знакомый, старинный, мило-галантный вид. Кравченко выступил со своими ксилографиями сравнительно недавно, но он не только замечен – он все более ширится по журналам и книгам. Нет сомнения, что он скоро будет излюбленным ксилографом петербургских издательств. Надо учесть исконный антагонизм московских и петербургских вкусов и репутаций, чтобы оценить степень ретроспективизации, какой Кравченко сумел подвергнуть Фаворского. Еще немного усилия, и Кравченко достигнет того уровня академической общепризнанности, когда ретроспективисты московские будут спорить за него с петербургскими.
Наконец, многоголовая группа начинающих, учащихся, нерешительных, незадачливцев, с еще нарицательными фамилиями, с ничего не говорящими сочетаниями букв. Она плотным кольцом обступила плеяду, но она пассивна и сера. Если кто-нибудь проявит себя – то в будущем; если кто отпадет – то незаметно. Сейчас это только обобщенный, туманный фон, служащий для выделения плеяды, как сама плеяда есть дифференцированный, сложный фон для фигуры Фаворского.
11
Это говорит о его одиночестве. Однако оно не больше той традиционной и естественной изолированности, которая суждена каждому новатору среди народившейся школы. В этом нет ничего трагического. Героическая тема в искусстве не так часто кончается трагическими нотами. Тем более у Фаворского: не все могут показать такую развитую сеть влияния и столько учеников. Его линия до сих пор была восходящей линией «светлого героя». Ничто не предвещает ее обрыва или ее превращения в линию трагедии. Фаворский еще не достиг своего зенита, но между ним и его сверстниками уже образовалась та дистанция, какая нужна, чтобы героическая композиция его жизни была оправдана.
1923
Шагал
1
Он входит в комнату – так входят люди дела, уверенно и четко преодолевая пространство крепкой походкой, свидетельствующей о сознании, что земля есть земля и только земля. Но вот на каком-то шаге его тело покачнулось и смешно надломилось, точно в театре марионеток надломился Пьеро, смертельно ужаленный изменой, и, чуть клонясь в сторону, надтреснутый, с извиняющимся за неведомую нам вину видом, Шагал подходит, жмет руку – и косо садится, словно падает, в кресло. У Шагала доброе лицо молодого фавна, но в разговоре благодушная мягкость порой слетает, как маска, и тогда мы думаем, что у Шагала слишком остры, как стрелы, углы губ и слишком цепок, как у зверя, оскал зубов, а серо-голубая ласковость глаз слишком часто сквозит яростью странных вспышек, прозорливых и слепых вместе, заставляющих собеседника ловить себя на мысли о том, что он, собеседник, вероятно, отражается каким-то фантастическим образом в зеркале шагаловских глаз и, может быть, потом узнает себя в одном из зеленых, синих, красных, летающих, взвихренных, изогнутых, выкрученных людей – на будущих картинах Шагала. И когда в беседе пробегут часы и, говоря о дорогой обыденности, о работе, о жене, о ребенке, Шагал вдруг вскипает какой-нибудь непонятной привиденческой фразой, вроде: «… мы говорим лишь как перед Богом, наш путь не ошибочен, ибо это путь Бога…» – мы уже более не удивляемся, мы даже видим, какими прочными нитями связаны эти фантасмагорические изречения Шагала с его искусством и его рассказами о повседневности жизни, – и что они так же неизбежны у Шагала и кровно ему свойственны, как эти вот неожиданные седые пряди, прорезавшие светловьющиеся волосы молодого художника.
2
Как сам Шагал, так трудно его искусство. Чтобы его полюбить, надо к нему приблизиться, а чтобы приблизиться, нужно пройти медленный и настойчивый искус проникновения сквозь его твердую оболочку. Потому что первый взгляд беспомощно путается в противоречиях и диковинах шагаловского искусства.
Что Шагал очень талантлив – эта сторона видна сразу; но зачем он делает все эти странности? Отчего этот чудесно написанный еврейский старец – зеленый? А у другого – красные и зеленые руки? У третьего на голове стоит совершенно такой же маленький еврейчик, лишь повернувшийся в другую сторону? У лошади виден в брюхе нерожденный жеребенок, а под копытами торчат две людские фигуры? У старухи отскочила голова и мчится ввысь, а безголовое тело стремительно спускается с высоты к корове, стоящей на крыше дома? А у девушки с букетом – к губам приник юноша, перекинутый в воздухе, через ее голову, словно кошка, подброшенная вверх? У вола – мужской сюртук и человеческие руки, и он сидит, раздумчиво облокотившись, меж двух свисающих с его плеч голых ног, принадлежащих, вероятно, той, в платке, бабьей голове, что, затылком вниз, плюет ему в рот? У человека, смотрящего сквозь окно на Париж, голова Януса – с лицом вперед и лицом назад, – и кошка, с девичьим обликом, глядит с подоконника на двух людей, лежащих, затылками друг к другу, возле Эйфелевой башни и ростом равных покосившимся многоэтажным домам окрест?
Что это – болезнь или озорство, то особенное эстетическое озорство молодости, художественное “рапенство”, которым начинали свой творческий путь так много больших художников?
Может быть, все, что сейчас требуется по отношению к Шагалу – это только простить ему нынешние дерзости ради его большого будущего? Или есть еще какая-то третья точка зрения, с которой открывается иной «вид на Шагала», где его теперешнее творчество уже не сумасшествие и не пускание пыли в глаза, а художественно оправдано и психологически убедительно в своих житейских несообразностях и где вопросы людей неискушенных – «Зачем он это делает?» – мы, зрители, «пришедшие к Шагалу», будем встречать с таким же большим изумлением, с каким глядит сам Шагал на посетителей выставки, сыплющих у его картин своими «для чего» и «к чему»?
Да, именно так!
3
Сближение с Шагалом трудно тем, что необходимо одолеть его противоречия, уметь синтезировать их, найти за стремящимися в разные стороны элементами его искусства единый стержень и общенаправляющую силу, верховную для всего множества пестрых частей.
Шагал – бытовик, но и Шагал – визионер; Шагал – рассказчик, но и Шагал – философ; русский еврей – хасид, но и выученик французского модернизма; но и, наконец, вообще некий космополитический фантаст, несущийся, как колдун на помеле, над земным шаром и в стремительном полете увлекающий вослед себе множество разных частиц множества разных жизней, роем оседающих на его полотна, когда наступают часы раздумий и творчества и пластически претворяется в образы и краски текучая и вихреная стихия шагаловских видений.
Если бы Шагал был только визионером, принять его было бы нетрудно, – как нетрудно было принять визионерство Чюрлениса. Было бы еще легче, будь Шагал чистым бытовиком, хотя бы он принадлежал к самым левым и самым крайним из числа тех художников, которые создают формы новобытовой живописи: мы достаточно искушены уже в разных «деформациях», чтобы не пугаться их и, может быть, даже находить в них прелесть. Наконец, нетрудно было бы соблазниться возможностью разгадать путанную и сложную аллегорию, если бы безголовые и зеленые люди Шагала были только аллегориями, которые можно обратить в простую и понятную притчу, как чудовищ, страшилищ и уродов в офортных циклах Гойи.
Но у Шагала нет ни того, ни другого, ни третьего. Его визионерство целиком живет в пределах простейшего быта, а его быт весь визионерен. В людях и предметах повседневности у него сквозит природа привидений, но эти шагаловские привидения отнюдь не тени, у которых нет ни плотности, ни объема, ни окраски и которых рубить и пронзать так же бесцельно, как рубить и пронзать воздух. Этот привиденческий быт Шагала обладает всей осязаемостью и тяжестью обыкновенных вещей и тел. А если все же им правит некий закон, который разрывает его на части и разметывает по воздуху людей, зверей и вещи, спутывает всю логику и разумность земных пропорций и взаимоотношений, то меньше всего в этом повинен бедный закон аллегории или низкий закон ребуса; перед нами не логическая игра, но подлинное, безусловное видение громадной внутренней насыщенности.