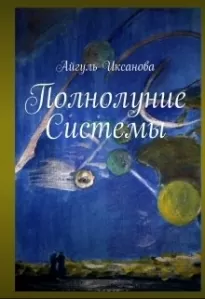Профили
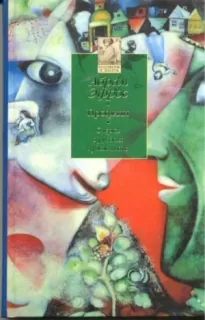
- Автор: Абрам Эфрос
- Жанр: Критика / Искусство и Дизайн
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Профили"
3
В 1910-х годах, постепенно усиливая насыщенность и глубину красочной оркестровки, достигнутой в «Карусели» (ее надо считать средней вехой от ранних блеклых «гобеленовых» гармонизаций к потрясающей декоративной звучности финальных работ), Сапунов вступил в полосу создания вещей, в которых сила живописной впечатляемости так велика, что картины этих лет по своему совершенству, по удачливости выделяются в особый круг. Перед ними зритель готов забыть о том, что это «краски, краски и только краски», и – если говорить до конца – готов простить Сапунову его влюбленность в поверхность предметов, в блестящую оболочку какой-то слепой и мертвой природы.
В эти годы за праздничной ясностью сапуновского искусства как будто заколыхалась темная и могучая стихия. Спокойствие художественного созерцания было возмущено и обвеялось тревогой. Глаз художника словно смутно различил что-то за нарядной оболочкой вещей. Сапуновские картины стали звучать особенно остро. Сапунов создал такие вещи, как «Рододендроны», «Вазы с цветами», эскизы декораций к «Мещанину во дворянстве», к «Принцессе Турандот». Изощренность его палитры и его художественная проницательность получили необычайную напряженность.
Сапунов в самом деле шел к какому-то преодолению своего эстетизма. Мы теперь это доподлинно знаем. Это доказывают его последние работы. На посмертной выставке мы увидели неожиданный ряд начатых, так и не доведенных до конца картин. Это была странная сюита «Чаепитий», «Ночных чайных», «Веселых домов», ставших в противоречие ко всему, что было связано с именем «мастера красивых вещей». Произошло вторжение «улицы» – и какой улицы! – в сапуновское искусство. Сквозь цветы и декорации потянуло кабацким чадом. Но когда исчезло первое изумление, в этой необыкновенной серии обнаружилось прямое, неизбежное, логическое завершение сапуновской живописи. В свете опубликованных материалов и воспоминаний о художнике чисто сапуновский характер «Чайных» и «Притонов» стал настолько убедительным, что не для них надо искать объяснений в свойствах предыдущего творчества Сапунова, а скорее наоборот: более плодотворным будет его измерять «Притонами» и «Чайными».
Важно отметить две главные черты в этих незаконченных вещах: они чрезвычайно декоративны, так как в них широко проявилась сапуновская красочная щедрость, и в то же время они насыщены какой-то трагической выразительностью. В них есть очевидная и прямая связь с театрально-декорационными работами Сапунова, но тот блестящий, звонкий и праздничный мир здесь обернулся к нему своей изнанкой. Ядом богемы, разрушительным воздухом притонов и кабаков запахло от сапуновских полотен. Насколько прежде живопись Сапунова избегала каких бы то ни было «вопросов» и «проблем», настолько теперь она стала свидетельствовать о таком надломе жизнеощущения, что нельзя отделаться от впечатления, будто художник, торопливой кистью нанося на картину образы, стонал под тяжестью своих переживаний.
4
Смерть – добрейший из цензоров, и темный пафос сапуновской жизни – этой «гофманианы по-московски» – стал разрешенной темой воспоминаний друзей и толкований критики. За четыре года, прошедших со смерти мастера, гофманиада была рассказана и истолкована; «Чайные» и «Притоны» посмертной выставки получили значение того узла, где жизнь художника пересекла его искусство. Да, именно здесь Сапунов – «граф», Сапунов – «Саракики», дразняще-подсурмленный, дразняще-расфранченный, Сапунов, в разгар творческой работы бросающий друзьям: «В кабак! – антиресуетесь?» – пытался слиться с Сапуновым «Ваз с цветами» и «Мещанина во дворянстве», с Сапуновым выставок и спектаклей – с «нашим» Сапуновым. Путь между «Каруселью» и «Чайными» оказался прямым и общим для искусства и для жизни: одно шло навстречу другому, чтобы перед смертью мастера встретиться.
Несколько неясных формальных моментов сапуновской живописи стали теперь понятны. Оказалось, что для этого надо было заглянуть в искусство низов, в художественный кодекс балаганов, каруселей и чайных. Вот откуда была яркость, законченность и выразительность сапуновской живописи финальной эпохи. Картинный и театральный «аранжемент» последних работ Сапунова – это цветы, букеты и гирлянды веселой яркости бабьих шалей, понёв и сарафанов, это живопись трактирных чашек, подносов и вывесок, роспись ярмарочных спектаклей, изумительный мир, сияющий алостью, синевой и золотом.
В искусство Сапунова поднялись с низин элементы народной эстетики красок, пристрастия народной декоративности. Мечты о «подносной живописи», пропаганда лубка, «апология вывески», исходившая от крайних групп нашего модернизма, осуществились в живописи Сапунова с тем легким и очищающим чувством меры, которое столь свойственно счастливой природе сапуновского дарования. Общедоступность сапуновского искусства, его широта теперь могли быть постигнуты еще в ином облике – как следствие деятельности народных элементов в его искусстве.
Фрагменты «Чайных» и «Притонов» рассказали о попытке Сапунова вывести свое искусство из рамок самодовлеющего эстетизма – сразу, напролом и вниз, подальше и поглубже, в самую житейщину. За этой полосой нисхождения где-то впереди был новый подъем – может быть, просветленный синтез искусства и быта. Однако судьбе не было угодно позволить Сапунову решить новые задачи. В русском искусстве он будет жить беспечальным и нарядным живописцем красивых вещей, и только тем, кто заглянет в архивы нашей художественности, в комнаты черновиков, кого любовь к прекрасному мастеру поведет далее того, чем он представлен в музеях и коллекциях, – цикл его незавершенных картин скажет о тайной творческой драме, которую смерть оборвала на первых же словах пролога.
1919
Фаворский
1
Художественной критике следует чаще всего упрекать себя за пристрастие к героическому. Это означает, что слабее всего в ней развито чувство действительности. Желаемое она слишком часто принимает за существующее. Но у желаемого – всегда полный масштаб, и у критики – всегда герои, положительные или отрицательные, а не те средние человеческие существа со средними дарованиями, каких знает большинство трезвых людей.
Потому-то критика так часто кипит в пустом действии. Ее поведение – донкихонада. Она может восхвалять или уничтожать. Она лишена холода дистанции. Она ставит историю на голову, ибо привыкла греметь сопоставлением имен прошлого со случайными любимцами дня. Contrappósto – ее излюбленнейший прием. Дар нюансировки – редчайший дар в ней. Чувство оттенков в ней – исключение. Шкалы рангов, градации превознесений и отрицаний она почти не знает. Язык ее оценок приблизителен и неточен. О тончайшем создании человеческого гения она говорит шершавыми звуками. Однообразию ее восторгов и ужасов можно было бы предпочесть даже отвратительную фармацевтическую латынь искусствоведения, если бы только эта почтенная дисциплина не вербовала, подобно аптекарскому искусству, своих адептов так часто среди гейневских героев. Во всяком случае, трагедия высокой критики есть трагедия гениального немого, осужденного выражать свою сложность простейшими звуками.
2
Но ни пороки критики, ни ее рассудительные оглядки на историю своих ошибок, ни продолжающийся общий кризис европейского творчества, ни убывающая энергия старших законодателей художественной современности не могут ничего изменить в том факте, что и сейчас в нашем искусстве есть области, которые могут быть названы героическими, где столь хулимая критическая патетика законна и легка и где все умеряющие педали не могут приглушить явственного нарастания героической темы. Такими областями являются наши графические искусства вообще и русская деревянная гравюра в особенности.
Ни одно из больших искусств не выдержит подобного испытания. Наша современная архитектура? – Но классический ретроспективизм Жолтовского и Фомина, Ильина и Щусева имеет лишь педагогическое значение. Он избавляет русское зодчество от ужасов строительного модернизма 1890-х годов, но положительно, творчески, художественно он столь же мало соответствует архитектурному сознанию современности, как живописная скурильность «Мира искусства» – буйным палитрам молодых течений Европы. А новая архитектура? – Она еще в детских панталонцах; не коробочки же с балкончиками считать за нее. Одного же умиления перед ее будущим мало.
Наша скульптура? – Но нет самого понятия «русская скульптура 1920-х годов», и я не знаю, есть ли даже отдельные мастера, которые могли бы притязать на подобное звание (Архипенко? Орлова? Липшиц? – однако это французы, носящие российские фамилии). Наконец, наша теперешняя живопись? – Но поскольку это подлинная живопись, она, за редкими исключениями, не изменила своих старых отношений ученичества к живописи французской.
Единственная область, где мы равны Западу, где мы соперничаем с ним – это русская графика, с ее блестящей общей культурой, с ее великолепными индивидуальными дарованиями, а единственная точка, где мы стоим выше европейского искусства, где мы превосходим его и законодательствуем ему, это наша гравюра на дереве.
3
Она находится ныне в зените своей героической полосы. Лейтлинию современной ксилографии ведут сквозь европейское искусство русские мастера. Эпоха нашей блокады ничего не изменила здесь по сегодняшний день. Новые дарования не нарушили установившихся соотношений. Последним большим именем ксилографа, зашумевшим нам с Запада, был Франс Мазерель. Но это не незнакомец, который мог бы заставить призадуматься. Мы знаем историю развития его искусства, так же как знаем меру его дарования. От первых скромных штриховых рисунков на пролетарские темы – через сюиту его иллюстраций к пацифистским книгам военных лет – до нынешних парадно изданных «рабочих циклов» – в нем везде сказывается одно и то же свойство. Это великолепный человек, но средний художник. Это пропагандист, а не мастер. Внимание к нему есть внимание в французскому социализму, а не к французскому искусству. Его поднял на своем гребне покатившийся по миру социальный протест против войны, а не художественное движение. Это, в лучшем случае, французский вариант Георга Гросса, но Гросс – не решающая величина для немецкого искусства. Техника Мазереля – вялая, рваная и приблизительная. Его приемы шаблонны. Звучание материала он плохо слышит. Он дерево крошит, как линолеум. Его резанные по дереву жанры кажутся промодулированными тушью. Путь хотя бы от Валлотона к Мазерелю есть путь художественного декаданса, хотя в то же время и путь социального подъема.
Вот расщепленность в стволе искусства, которого не знает русская ксилография! Она ничего не уступает в своей социальной отзывчивости, – недаром революция смогла использовать ее в полной мере, – но она одновременно ведет и неуклонное, настойчивое, чисто художественное движение вперед. Ее формы цветут и раскрываются новой пластической жизнью. Европейски значительно глубокое перепахивание старого поля, которое производят в области гравюры наши мастера. Европейски обязательно направление их работы и приемы, ими выдвинутые. И потому европейски оправдано то разгорающееся на Западе увлечение русскими гравюрами, которое вызывает в нас чувство, столь привычное для искусства Франции и столь редкое для искусства нашего (впервые мы испытали это в области театра и его декоративных проблем) – чувство разрастания отечественных масштабов до общеевропейских размеров. Наша ксилография сейчас ставит вехи всему развитию гравюры. Она вступила в историческую фазу. Она классична.