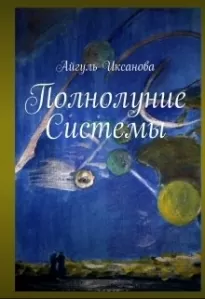Профили
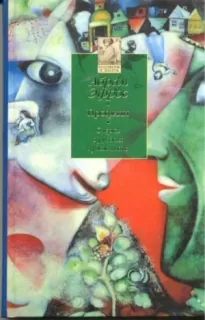
- Автор: Абрам Эфрос
- Жанр: Критика / Искусство и Дизайн
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Профили"
Розанова была в числе этих редких мастеров – интимистов футуризма. Прозрачность и чистота ее интимизма так значительны, что она изумляет даже среди подлинных поэтов комнатного быта и хозяйственности. Она столь же необычна тишиной, как шумная бой-баба футуризма Гончарова – своим зыком и грохотом. Розанова – оборотная сторона Гончаровой. Эта пишет, точно воз горшков везет. Силищи у нее через край, вся она крепка, ядрена, вынослива, драчлива и задорна. А та – только пищит, посвистывает и шуршит у подбуфетной норки; ее грохоты – разве лишь упавшая с полки ложка или задребезжавшая чашка, задетая стремительным мышиным бегом.
Действительно, футуристические полотна Розановой часто уподобляются посудному шкафу. С какой хлопотливой любовью она располагает в их футуристическом строе ложки, вилки, тарелки, ножи. И притом она ничуть не обманывает ни себя, ни нас. Она не находит нужным скрывать, что именно ради этих малых предметов затеяна ею разработка всей темы.
Футурист не знает жалости к вещам. Он отрывает от них куски, ломает их и показывает нам обломки, которые нужны ему для иллюстрации своих душевных движений. Дробление предметов он считает своим основным футуристическим правом. И это действительно так по сути дела. А вот Розанова недолюбливала этого права. Во всяком случае, она пользовалась им осторожно, } разборчиво, не излишествуя, отбрасывая все, что привносила мода и что не отвечало истинным законам футуризма. И если для тех, душегубов, характерно сладострастие разрушения и о них можно сказать: «ломают и причмокивают губами», то относительно Розановой следует подчеркнуть противоположное стремление: если уж нужно разъять вещь на куски, то пусть это будет помягче, поделикатнее, без лишней боли, так, чтобы не обидеть вещи.
Когда она добиралась до своих ложек и чашек, до своего хлопотливого хозяйства, ее бережность становилась прямой нежностью. Только старинные натюрмортисты выказывали такую трогательную любовь к вещи. У сподвижников Розановой – хотя бы и среди старшего поколения – вещь была средством художественной изобразительности, но не самоцелью. В Розановой же жил старый фетишизм вещи.
Откровенная, следует сказать – программная эмоциональность ее футуризма дает мне право на такое утверждение. Вот хозяйственная композиция Розановой: изображена посуда, приборы и т. п. Смотрю и вижу: старания, чтобы вся вещь была видна как на ладони, лежала удобно, свидетельствовала о своем назначении, показывала добротность своего материала, – словом, заботы, которые мы встретим лишь на витринах магазинов. Но там это создано стилем рекламы, это витринная заботливость, она не ради вещи, но ради прохожего. Розанова же берет, ласкает и нежит вещи ради них самих, делая это со столь глубокой привязанностью, что долго заглядываться на ее полотна почти что неудобно, как неудобно заглядывать в случайно раскрытый чужой буфет, таинственно зияющий интимным бытом чужого хозяйства.
Где же сохранить последовательность и решительность при этом складе дарования? Действительно, Розанову часто упрекали в компромиссности ее искусства. Я не знаю, защищалась ли она на словах, но на деле она некоторое время крепилась. Она пыталась остаться верной интимному и предметному характеру своих полотен. Затем она уступила. Но уступила только тогда, когда ее друзья ушли столь далеко вперед, что упорствовать – значило остаться одной на дороге. Ну, это было не для ее мышиной натуры! И она поспешила догнать их.
5
Случилось это так. Однажды несколько упрямых молодых голов поставили вопрос: «Что есть живопись?» Звучит это по-достоевски, да так оно и выходило на самом деле. Это был один из вопросов, которые «русские мальчики» кровно и истово решают в «проплеванных трактирах, за чаем». Решение вынесли такое: «Та живопись есть живопись, то есть заслуживает этого названия, которая ничего не изображает, но выражает самое себя». Мальчики приняли название «беспредметников». Розанова – это были ее друзья – пошла за ними.
Но какая же она была «беспредметница»? Она очень старалась ничего не изображать и удовольствоваться отвлеченной схемой кругов и угольников, прямых, пересеченных, монохромных и цветных. Все ее последние полотна добросовестно упражнялись в этих вариациях и сочетаниях. Однако они не давались ей. Она оставалась явно неспособной к подобной живописной планиметрии. Суетливая нагроможденность ее композиционных решений, цветистая пестрота ее красочных схем откровенно свидетельствовали, что она тоскует по своему буфетному хозяйству и что ей холодно на отвлеченных высотах «беспредметничества».
Помню, после одной из выставок я ставил вопрос: не слишком ли подозрительна эта тряпичная нагруженность розановских полотен? Не контрабанда ли это? Уж не проникает ли под ее прикрытием сюда то прежнее розановское посудное царство, лишь несколько загримированное и подцвеченное под новый, обязательный, беспредметный лад?
Надо только высказать эту догадку, чтобы понять особенности розановских абстрактных композиций. Иначе отчего они так неплоскостны? Отчего они напоминают планы каких-то построек, правда фантастических, немыслимых, однако наделенных явственной ощупью, предметностью, вызывающей в воображении коридоры, ходы, норы, переходы, – лабиринты, наполненные тревожной и обильной жизнью? В некоторых картинах Розанова так смелела, что перед нами – как отрицать это? – нечто вроде арабского города с птичьего полета: цветные прямоугольники маячат, словно плоские крыши мазанок, которые далеко внизу припластались к земле.
6
Да, мышь тосковала. У беспредметной живописи она была в плену, в дружеском плену, но все же в плену. Пленники тайно чертят на стене каземата очерки милых существ, – так зачерчивала она на своих отвлеченных полотнах прежние реальные видения.
Бежать из плена? Кажется, она замыслила это. У нас есть данные об этом говорить, после того как была ее посмертная выставка и были показаны ее последние работы, сделанные совсем недавно, перед самым концом.
Что же, разве это не начало конца ее беспредметничества? Плоскость, отвлеченность, безобразность? О, нет, в них совсем иное, в них есть какое-то откровенное упоение пленэром. Они насыщены светом. Это – солнце за туманом, – воздух! воздух!
Розанова спускалась опять на землю. Мышь возвращалась восвояси. Много ли оставалось ей дойти? По-видимому, совсем немного, раз смерть поторопилась подстеречь и срезать ее, – ибо так стерегут только у последнего шага.
1919
Нарбут
Смертная очередь пала теперь на Нарбута. По обыкновению, этому долго не верилось. Такое количество зарубежников (а Нарбут был на гетманской Украине) преждевременно хоронилось и оплакивалось, что самые слова «там-то умер такой-то» стали звучать юмореской и встречались со смешливой гримасой. В течение нескольких месяцев так улыбались и мы вестям о смерти Нарбута. Но потом из Киева приехали люди, сами шедшие за его гробом, и смерть стала смертью. В русской графике образовалась очень большая пустота. Он был не просто хороший художник. Ежели мы захотели бы назвать два-три лучших имени нашей графики, – Нарбута мы не обойдем.
Однако суть вовсе не в размере его таланта. Это был прекрасный талант и действительный талант, но совсем не исключительный. Сила его не поражала. Таких у нас я мог бы насчитать достаточно. Да и времени созреть у Нарбута не было. Он умер молодым, тридцати четырех лет (1886 – 1920). Его дарование еще носило печать порывистости и, пожалуй, даже неустойчивости. Он таким бегом одолевал свою графическую дорогу, чуть ли не скачками и вприпрыжку, что задержек у него не отметишь нигде. Из его работ не образуешь отдельных, замкнутых циклов, связанных с таким-то или другим периодом. У него все течет, извивается, варьируется – и вдруг, на очередном извиве, обрывается смертью. В целом – это одно и то же. Это ровное искусство. Первый Нарбут и последний Нарбут многим не разнятся. Нарбут отлился в цельную фигуру сразу; в этом и была тайна его яркости.
У нас графиков много, – но только графиков у нас почти нет. А Нарбут именно только график, и ничего больше. У нас много превосходных графиков, но прирожденных графиков у нас нет вовсе. Нарбут же был прирожденным графиком. Таким был он один, а теперь не осталось ни одного. Есть дарования куда большие, чем у Нарбута, по красоте и по силе. Но в графике эти художники – люди случайные, а он свой; на графическую область они уделяли себя лишь частицами, походя, между прочим, а Нарбут в ней весь, с головой. Он видел и мыслил только графически, а не, скажем, живописно, скульптурно, декоративно или как-нибудь еще. Наши художники – все какие-то энциклопедисты: энциклопедист Бенуа, энциклопедист Головин, энциклопедист Бакст. У них и живопись, и декораторство, и графика; а он – узкий-преузкий. В этом он черпал такую силу, что ею преодолевал и природные недостатки дарования, и несовершенство молодости. У него была сила односторонности, помноженная еще на любовь к этой односторонности. Он знал, что он только график, и хотел быть только графиком, – упрямый хохол! Он ни разу не согрешил против упрямства. На него не подействовал ни один соблазн, даже такой совершенно неодолимый, как театр, которому уже все, буквально все заплатили дань. Нарбут же, неизменный член того же братства, в кругу Бенуа, Добужинского, Рериха, Головина и прочих восторженников сцены, никогда ничего не поставил.
Он – книжник, он – книжная личинка; книга его родила, книга его прихлопнула, в ней он жил, и другого облика для Божьего мира у него не было. В этом смысле он прямо-таки гофманическое существо; он был одержим книжными недугами; у него кровь была смешана с типографской краской; он пропах запахом наборных, печатных и переплетных; каждый его рисунок, хотя бы маленький и разрозненный, всегда вызывает в нас ощущение новой книги, только что оттиснутой и сброшюрованной, зеркально-чистой и свежепахнущей.
О таком художнике говорить, что он техник, значило бы употреблять не те слова. Техником всякий первый ученик может быть, – надо только стараться. У Нарбута техницизмом называли органичность его графического искусства. Но это такой же природный дар, как рыжие волосы и голубые глаза. Это дается сразу; и он стал графиком сразу. Он сразу, едва лишь сделав восемнадцати лет первый рисунок для общины св. Евгении, зарисовал так, как «техник», человек выучки, человек одоления препятствий будет рисовать к концу жизни. Но только он к этому прибавил еще природное упорство в труде и изумительное знание ремесла. Если он и мог совершенствоваться, то только в этом направлении. Он мог быть все лучшим мастером, но не художником. Так он и совершенствовался в самом деле. Его лучшие вещи, – скажем, рисунки к басням Крылова, – по сравнению с работами послабее, – только и выдают, что более тонкое ремесло, или, вернее, более разборчивые приемы, а вовсе не взлет или упадок вдохновения.
Вдохновение же его однообразное. С этой точки зрения его всегда можно было критиковать, и с этой точки зрения его всегда критиковали. Он был высокий делатель искусства, а не поэт; он – то, что Бенедиктов назвал когда-то «работник вдохновенный, ремесленник во славу красоты». Это грань, конечно, тонкая, такая тонкая, что нет-нет да и потеряешь ее из глаз; но она есть, и если уж угодно договариваться до последних слов, то я скажу, что перед Нарбутом она обычно проходила, оставляя его по ту сторону себя. Может быть, надо было бы всю критику его строить только на утверждении, что он холоден, а поэзия всегда горяча, обжигая даже тогда, когда она ледяная.