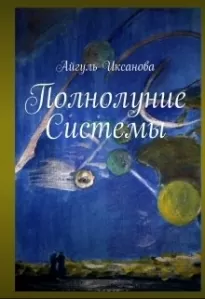Профили
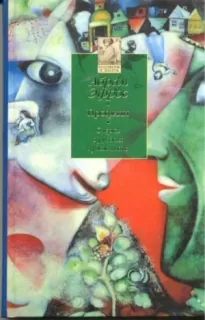
- Автор: Абрам Эфрос
- Жанр: Критика / Искусство и Дизайн
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Профили"
Пожалуй, это так Нарбут очень уж строил свою графику, вычислял, отмерял, расчерчивал. Вспышке огня здесь нет места, непосредственной удаче он не доверял, – он должен был наперед знать место каждой точки и соединенное действие всех эффектов. В его графике всегда есть давление циркуля и линейки. Чем старше он становился, тем сильнее это давало себя чувствовать. Он делался совершеннее, но и делался холоднее. Опыт утончал его расчетливость, а расчетливость утончала, в свою очередь, опыт. В последние годы жизни у него были работы, где он предстает почти схематиком. Графика вообще лаконична по своей обобщающей и типизирующей природе; но даже для нее схема – это предел, это только остов, костяк. Существует понятие «божественная худоба», за ней начинается уже «скелет»; так вот Нарбут кое-где балансировал на самой грани божественной худобы и скелета. Его абрисы и пятна становились все оголеннее, все морознее и все скупее. Чистая, нетронутая плоскость листа – необычайно прекрасная вещь, и я думаю, что идеальный график, график фантастический, график немыслимый, должен считать, что последнее совершенство искусства – это нанести на белоснежную пелену всего одну какую-нибудь черную точку или малое пятнышко; тронуть больше – значит возмутить гармонию плоскости и унизить графику.
В предсмертном Нарбуте была эта трудная страсть к пустотам листа. Он стремился сократить все, что можно сократить из черных масс и черных линий, наносимых на изначальную белизну плоскости, – только бы она играла перед глазом. В этом я вижу высокую природу его графической натуры. Он шел от листа к пятну, тогда как низкая графика идет обратно: от пятна к листу; таков, например, друг и антипод Нарбута Митрохин. Но в этом же всегда сказывалась и слабость его сил.
Чувство меры у него было только приблизительное, угадывать он не умел, а расчет обманчив; Нарбут то переоголял, то недооголял листы. Если говорить, что Нарбут иногда мучился своим искусством, то именно про такие случаи. Испарина напряжения чувствуется в его последних «графических схемах», в листах, созданных во время войны 1914 – 1917 годов, в аллегориях, в геральдике, в орнаментировке.
По-видимому, ему доводилось порой так трудно, что на него находило какое-то художественное отчаяние. Тогда он точно бы решал начать жить по-новому – «совсем по-новому». Он несколько раз пытался облегчить себе специфичность своей графики и зажить хотя бы немного вольнее, не так строго и замкнуто. Он тогда позволял себе маленькое свободомыслие, ничтожную вольность: считать иллюминованный рисунок тоже своей графикой, – и он рисовал и раскрашивал, делая такие вещи, как, например, заглавный лист к «Архитектуре Галиции» Лукомского или к «Аполлону» 1916 года.
Но мне кажется, он сам сознавал, что это не спасение для него, а лишь облегчительный самообман, художественная валерьянка для усмирения потрясенных чувств. Мы теперь знаем все, что он делал в Киеве за годы гетманщины: они ничего не изменили, они лишь обострили внутренний разлад. По-видимому, в самом разгаре этого конфликта с самим собой его и постигла смерть, выполнившая свое обычное назначение в эти годы – внешним вмешательством обрывать то, что в мирные времена решалось изнутри, по вольной воле.
1920
Альтман
1
Если бы времена не были такими бурными, – войны и революции не хлестали так через голову человечества, и кровь в наших жилах не плясала так судорожно и безрассудно, подпрыгивая, точно вербный чертенок в своей красножидкостной стеклянной трубочке, – я, вероятно, мог бы еще ощущать в себе астрономическое спокойствие, присущее присяжным историкам искусства, и стал бы не спеша, с высоты исследовать движение художественных форм и разглядывать жизнь моих современников, наклонившись над ними в позе Гулливера, пропускающего между своими гигантскими ногами процессию лилипутов.
Но нынче чувствовать себя историком невозможно. Гений истории вырядился сальтимбанком; история выкидывает цирковые курбеты и сальто-мортале; историческая почва не перестает ворочаться под ногами, разбухать и шумно трескаться; злосчастные аналитики и наблюдатели, не успев наморщить лоб для размышления, уже взлетают на воздух и падают, думая только о том, как бы не переломать себе рук и ног; а история истории вычерчивается под их пальцами непонятными, судорожными и даже просто дурацкими зигзагами.
В такие времена что делать нам, как не отказаться честно и сразу от притязательности жрецов и авгуров искусствоведения и не удовольствоваться простой сменой художественно-критических суждений, набегающих, может быть, слишком беззаконно и беспокойно, но зато совершенно оправданных событиями текущего дня.
В такие времена тяжелые главы исторических трактатов сменяются заостренными абзацами сочинений критических, а вместо введений пишутся прологи.
Таков и мой пролог к Альтману.
2
Я рассказываю:
– как все смешалось в доме Облонских: как в искусстве стали замечаться невиданные дотоле процессы; как искусство перестало различать в себе отдельные течения; как признаки, когда-то отделявшие одну школу от другой, перестали быть такими признаками; как все признаки переместились и перетасовались, и все оказалось всюду, и нигде не оказалось ничего;
– как теоретики направлений, которые прежде говорили очень разные и непохожие друг на друга слова и гордились тем, что говорили разное, и не могли друг с другом сговориться, и не уставали друг друга опровергать и отвергать, – вдруг с изумлением заметили, что все они стали говорить одно и то же, что каждый у каждого перенял его мысль и термины, и все у всех перемешалось, и все стали похожи как близнецы, и все поэтому стали равно ненужны, и было бы довольно какого-нибудь одного из них, все равно какого, который стал бы этой кашей кормить людей, согласных этой кашей кормиться;
– как художники разных течений, которые раньше работали по-разному и очень старались быть разными, и гордились этим, и объявляли, что только они, которые так делают, суть художники, а другие, работающие иначе, суть не художники, а бог знает что, – с таким же изумлением увидели, что и у них ничего непохожего друг на друга не осталось, и отличить их друг от друга больше нельзя, и каждый мог бы друг за друга писать, лепить и строить, и каждый мог бы на чужом произведении поставить свою подпись, а на свое произведение принять чужую, без ущерба для себя и без выгоды для другого;
– как, вследствие этого взаимопересечения, стало утрачиваться различие между художниками талантливыми и художниками бездарными; как у талантливых художников стали особенно настойчиво замечать и отмечать ошибки и слабости, а у художников бездарных – находить и подчеркивать какие-то особенности и приятности; как образовалась одна общая, огромная, бесформенная категория «художников вообще», которых одни критики огулом ругали, а другие хвалили;
– как даже между народами и странами, дотоле руководившими движением искусства, и между народами и странами, лишь подбиравшими крошки с чужого стола, стала стираться разница, и как мир перестал понимать, что такое суть французы в искусстве, и что суть в искусстве немцы, и что суть в искусстве мы, русские;
– как вследствие этого произошла дальнейшая чепуха и чертова путаница; как немцы тут же ловко сочинили несколько теорий о том, что у них процветает искусство, чего мир раньше никак не мог разглядеть; как французы, растерявшись от хлынувших хлябей, единственный раз в истории забыли, что они – французы Божьей милостью, и собрались идти по части художественного ремесла на выучку к нам, русским, а по части художественного вкуса – к немцам; как мы, русские, сразу же потеряли стыд человеческий и страх Божий и послали Ларионова и Гончарову обучать французов живописи, а у себя занялись семейными делами и петушиными боями, стравливая Якулова и Лентулова и уверяя Лентулова, что он лучше Якулова, а Якулова – что он лучше Лентулова;
– как мастерские художников, раньше накрепко запиравшиеся из боязни, что сосед у соседа что-нибудь подглядит и стянет, вдруг открыли все двери настежь, и все всех стали зазывать к себе, и все у всех стали собираться, и все всем стали жаловаться, что пошла чепуха и чертова путаница, и все стали друг друга величать маститостями и знаменитостями, и все стали друг у друга восторгаться оставшимися этюдиками и эскизиками, и все стали друг за друга предлагать оставшиеся этюдики и эскизики в музеи и коллекции, и все стали друг другу настолько добрыми друзьями, что на общих, огромных, бесформенных выставках, сменивших прежние выступления групп и течений, принялись с доброй улыбкой друг возле друга вешать оставшиеся этюдики и эскизики, как если бы от малых лет все были влюблены друг в друга и никогда не было времени, что имярек не хотел висеть рядом с имяреком, имярек требовал себе стену и место имярека, и имярек кричал об имяреке, что он сапожник;
– как везде заговорили о кризисе искусства; как заговорили о кризисе искусства у нас; как все согласились, что кризис искусства есть; как все у нас пришли в уныние; как пришли в уныние даже первейшие люди; как даже всехитрый Бенуа, дотоле один утверждавший, что все обстоит благополучно, ибо весь Божий мир превратился в сплошной «Мир искусства», – перестал играть лорнетом и пером и затих; как даже всеядный Грабарь, из боязни отстать от века скупавший для музеев все у всех и вешавший в музеях все возле всего, дабы всюду был сплошной «Мир искусства» и Бенуа, его друг, был бы доволен, – теперь не знал, что у кого покупать и что куда вешать;
– и как, как над всей этой чепухой и чертовой путаницей, поверх унылой русской равнины, затопленной хлябями, – точно над водными безднами голубь Ноя или ворон Гильгамеша, – знамением времени, прищуриваясь, прицеливаясь, примериваясь, носился дух Натана Альтмана, зорко высматривающего твердую землю и знающего, что нынче пришло его время – время Натана Альтмана – жить, творить и величаться.
3
Эсхатологические черты в его облике так крупны, что их труднее проглядеть, нежели заметить. Он ходит среди нас живым символом потопа. Он не подмигивает и не принимает значительного вида, – но, поглядев на него, каждый знает, что в общей гибели этот спасется. Его внешний образ силен и закончен. Он зловещ и труден, но он покоряет нас впечатлением, что от него податься некуда.
У него скорее облик собирательного существа, нежели отдельной личности:
его душевный склад – пронзительный и острый, однако скрывающий свое жало, как кошка когти, в мягкости поверхностного общения:
ум – холодный и быстрый, играючи разбирающийся в хаосе событий, всегда точно отличающий блеск летучих эфемерид моды от горения больших светочей современного искусства, но и всегда пригашающий свою слишком жадную разборчивость, дабы не испугать тех, с кем он приходит в соприкосновение;
темперамент – позволяющий ему чувствовать себя особенно хорошо именно в общем смятении и бестолковщине, легко нырять в панической толпе художников, как ныряют прирожденные люди ярмарок и давок, артисты человеческих скопищ, погружаясь в них, но не исчезая и оказываясь поверх всех плеч и голов, на каком-нибудь бочонке, повозке или ларе, когда можно притянуть к себе взор и слух людских мириад;