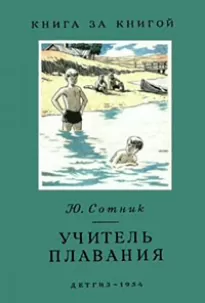Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после
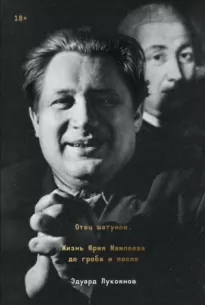
- Автор: Эдуард Лукоянов
- Жанр: Критика / Литературоведение / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после"
Особо жестокое отношение у бегунов было к младенцам. Сектанты, проводившие жизнь в пути, не жаловали отпрысков и от большинства новорожденных избавлялись. Обычно детей просто морили голодом или душили, не забыв перед этим окрестить по своим канонам[477].
– И так далее, – расхохотался в заключение Анцетонов, но Горичева лишь кротко, почти блаженно усмехнулась в ответ.
А затем продолжила свое:
– Я видела, как Юра писал в «Макдональдсе». Я, естественно, всегда ненавидела «Макдональдс». Когда в России на Пушкинской очередь собиралась, меня от этого воротило. И Юра тоже ненавидел «Макдональдс», но он сидел там, потому что его не выгоняли: он купит чашечку кофе и весь день там пишет. И я видела, какое лицо у него было: как будто он слышит голос. Причем это не какой-то наркоман, как Вальтер Беньямин. Он здесь, во Франции, даже не пил ни капли. Он всегда тихо говорил, почти блаженно. Вот такой вот разрыв между ужасами, которые он описывал в своих рассказах и в романах, и человеческой такой кротостью, даже блаженством… Юре было здесь намного лучше, чем в Америке.
– Почему?
– Почему здесь? – переспросила Горичева у Анцетонова. – Он сказал: «Татьяна, если тебя позовут в Америку выступать, ты лучше туда вообще даже не езжай, потому что, если ты произнесешь слово „Россия“, тебя убьют». Я знала, что это не так, – расхохоталась Горичева. – Но он же даже не говорил по-английски. Возглавляя почти кафедру Набокова в Итаке, он не выучил английского языка.
Анцетонов, блестяще владевший многими европейскими языками, поднял удивленно брови:
– Как это так?
Но Горичева в ответ лишь процитировала самого Мамлеева: «Один из профессоров славянского отделения университета как-то разговорился с Набоковым о Достоевском. Набоков недолюбливал Федора Михайловича – ну, что ж, вольному воля. А профессор вдруг прервал его и сказал: „Не понимаю, почему мы до сих пор сидим здесь и говорим о Достоевском? Рабочий день давно закончился“»[478].
По крыше чердака застучал дождь. Анцетонов даже не поежился, как он делал обычно в подобных случаях, – настолько растопила его тревогу милая незамысловатая беседа с пьющей вино философиней. Он смущенно замолчал.
Заподозрив это смущение, Татьяна Михайловна его прервала:
– Юра, конечно, анархист. Он считал, что русский человек самый свободный, причем безумно свободный – свободу свою доводит до абсурда. Но Мамлеев под свободой понимал не права человека, не права меньшинств, не права старшинств, не права наций. У него все наоборот было. Он, например, поддерживал войну в Афганистане, а я была против. Меня же из России изгнали за то, что я стояла с антивоенными лозунгами. Я листовки на здание КГБ вешала, и их даже не снимали. Меня не арестовали, но решили от нас избавиться, просто выслали. А Юра здесь, во Франции, на стороне нашей армии был. Но его политика не интересовала. Он просто за Россию был, за русских, и ему все равно было, что они делали.
Анцетонову показалось, что на чердачной келье запахло газетами, хотя никаких газет, куда ни глянь, не было. «Удивительное мерцание фантомных запахов», – резюмировал Анцетонов краткое помутнение своего рассудка.
– Юра определял дьявола как развивающийся абсолют, как у Гегеля. У Гегеля абсолют постигает себя через себя же.
– Да, – согласился Анцетонов и сам же удивился холоду своего голоса.
– Его всегда очень печалило, что всех его героев воспринимают как уродов, больных, как отрыжку какого-то неприятного явления. А на самом деле он считал, что прочитавший его романы не станет кончать жизнь самоубийством.
– Да, есть такое, – погладил свою шею Анцетонов.
– Его удивляло, когда западные слависты говорили о его текстах как о крайней степени отчаяния, депрессии. Он считал совершенно наоборот, что у него как раз есть радость, как и во всей эсхатологической русской литературе. Каждый день – последний день, и напряг жизни предельный. Ничто не делается с компромиссом, все делается на сто процентов. Это почти Хайдеггер: нужно дойти до абсолютного страха, чтобы прийти к познанию бытия. Тот, кто не пережил абсолютного страха, когда все бытие ускользает от нас и потом появляется уже совсем в другом качестве, тот ничего не пережил. Борис и Глеб, которые не сопротивлялись своему убийце, стали основателями святости русской. Первые святые – это просто страстотерпцы. Глеб говорит: «Просто как сыр нас порезали». Даже не как животное, не как овцу, а как сыр. У Юры это тоже есть – жертвенность, но жертвенность радостная.
Отупев от этих слов, Анцетонов с ними внутренне согласился и подумал о том, что Юрию Витальевичу была присуща аскеза, переходящая в спокойствие крота, у которого есть минимальные задачи: добыть картофель, поесть червя, запасти немного на зиму. У Мамлеева этой добычей картофеля, выглядящей со стороны несомненно жалко, было стремление прорыться сквозь темную почву «признания» к хотя бы небольшому кружку понимающих его письмо. И он этого, надо признать, достиг – и даже более того: вошел в разряд не просто классиков, но классиков непризнанных, которых, в отличие от многих классиков признанных, будут читать и перечитывать, чтобы превознести или, напротив, низвергнуть. Анцетонову это показалось похожим на интерфейс кровавой видеоигры «Смертельная битва» (почти что «Бой топорами»), в котором герой, ведомый игроком, находится сбоку от пирамиды врагов, то поднимаясь на нее, дабы одолеть главаря Шао Кана, то падая вниз – и начиная все заново. Отвлекшись на это сравнение, он перестал слушать Горичеву, но она все же выхватила его из раздумий следующими словами:
– …потому что это входит почти в ритуал сатанизма – кого-то распинать. Но Мамлеева считают сатанистом.
– А вы не разделяете такое мнение? – уцепился Анцетонов за знакомые слова.
– Нет, совершенно нет! – ужаснулась Татьяна Михайловна. – Он ненавидел сатанизм, но под сатанизмом он не имел в виду кровавые жертвоприношения или идиотские секты. Под сатанизмом он имел в виду мещанство: власть денег – анонимное бытие, где все не виноваты и все участвуют в общем зле. Это он и называл сатанизмом.
– Да, – принялся рассуждать вслух Анцетонов. – Я об этом как раз думал, пока ехал к вам в опустошающем парижском метрополитене. Мамлееву ведь не нужно было ничего из того, что западная цивилизация называет «благами»: деньги, автомобили, роскошно обставленные дома. Но при этом он нуждался в признании – и желательно мировом. В признании себя как законной части большой русской литературы. И поэтому в эмиграции постоянно пытался прибиться к какому-нибудь «кругу», который, как ему казалось, составляли более «успешные», чем он, люди.
Рассуждения Анцетонова были выслушаны Горичевой внимательно, но по крепкому белому лицу и чуть водянистым глазам ее было понятно, что она не категорически, но все же не согласна с гостем:
– Здесь в Париже есть школа Успенского, гурджиевцы. Юра ее не возглавлял, но был очень солидным персонажем. Но это слабенько, скажу я вам, Любомир, это так слабенько! Это абсолютно салонное, денежное занятие. Такой буржуазный гедонизм, крайне провинциальный.
– И Мамлеев этим кругом все равно интересовался? – захлопал Анцетонов глазами без ресниц (он был толстый и при этом почти лысый).
– Потому что там кушать давали, а он любил покушать. Сидел, все время кушал, так что даже не слушал, что говорят, – засмеялась Горичева, но тут же уточнила: – Нет, он не гурман был, он все ел, все! Человек совершенно аскетичный. А Маше это очень нравилось. Она любит богатство. Мамлеев очень печалился, что его не понимает Запад, что его принимают за какую-то чернуху. Он очень печалился и чувствовал себя одиноко здесь. Уже потом, в Москве, он сошелся с Уэльбеком. Они с Мамлеевым очень хорошо провели целый день, когда Ульбек туда приехал.
Анцетонов не поверил своим ушам и потому воскликнул:
– Мишель Уэльбек?! Серьезно?!
От этого крика и судорожных движений Анцетонова заскрипели половицы и открылась крохотная форточка, в которую тут же хлынул поток пушистого дождя.
– Да, – невозмутимо ответила Горичева. – Мишель Уэльбек.
– А как вы об этом узнали?
– Мне Юра рассказал, – сообщила в ответ Татьяна Михайловна.
Поежившись, Анцетонов все-таки встал, чтобы закрыть форточку. Грузное, жирное тело его с широкими ляжками протиснулось через деревянное нутро чердачной кельи, вновь сделавшейся горизонтальной. Справившись с форточкой, Анцетонов стер рукавом выступивший на лбу пот и плюхнулся обратно на свое место.
– Вообще, все писатели, которых я тут встречала, да и не только тут, и в России тоже, – это все ученики Мамлеева, – заявила вдруг Горичева. – Виктор Ерофеев говорил: «Я ученик Мамлеева». Это они сами говорили.
– Да, да, – подтвердил Анцетонов.
– Проханов наш любимый, – добавила Горичева.
– Он это своими устами говорил? – Анцетонов удивленно приподнял белесые брови.
– Да, он его прямой ученик, – подтвердила Горичева. – А как там нашего главного писателя зовут? Которого никто не видел.
– Дмитрий Быков? – не понял вопроса Анцетонов.
– Пелевин, – поправила его Горичева. – Пелевин тоже ученик Мамлеева. Я могу даже так сказать: каждый второй из писателей, кого вы сейчас назовете, – это ученик Мамлеева. И вот этот еще, который страшно антирусский писатель… Все русофобы от него пошли… Сорокин! Сорокин его ученик, да, прямой. Мамлеев так переживал: «Сорокин – какой кошмар написал! Ну как любовь к России может так выглядеть?»
Горичева задумалась, печально глядя на стакан. Умное пожилое лицо ее вдруг совсем посветлело – видно было, что красное вино разогнало прохладную кровь, которая насытила цвет ее щек и лба, оказавшихся от природы белыми, как контурная карта, только вышедшая из печати.
– У Гельдерлина есть такая мысль: все боги живы, – прервала Татьяна Михайловна собственное молчание. – У него и Христос – бог, и Геракл – бог, и Рейн – бог. «Боги живы, но они нас покинули, потому что щадят нас»[479]. Он верил в этих богов. Он с ними общался. Он только с ними и общался, больше ни с кем. И Юра тоже эту мысль все время продвигал.
– Какая-то головинская мысль на самом деле, – предположил Анцетонов.
– Да, – согласилась Горичева. – Думаю, Головин ему про это и рассказал, он знал немецкий… Еще Мамлеев очень любил Андрея Платонова – за то, что он все в жизни воспринимал как чудо. И для Юры ничего не было, кроме чуда. Из русской литературы он любил раннего Горького, Достоевского. В конце жизни полюбил Толстого. Ему нравилось, что у Толстого нет отрицательных героев, во всех его героях видна совершенно удивительная полнота жизни, бытия, и вообще нет отрицательных. Толстой действительно строит. Он идет от морали, от ответственности, в отличие, скажем, от Достоевского. Толстой хотел построить здание действительно положительного бытия… Так приятно вспоминать о Мамлееве, а это хороший знак, что никаких обид я не помню.
Тут Анцетонов приосанился, коротко кашлянул и сказал со всей серьезностью, на которую было способно его круглое рыхленькое лицо:
– А можно я с вами кое-чем поделюсь, чтобы сверить ощущения?