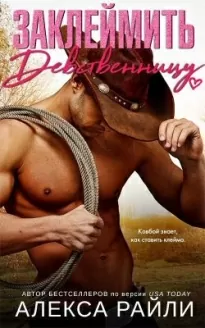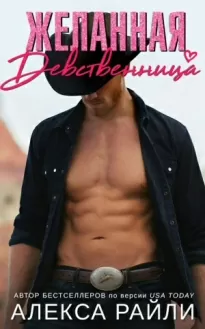Том 6. Проза 1916-1919, пьесы, статьи

- Автор: Леонид Андреев
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 1996
Читать книгу "Том 6. Проза 1916-1919, пьесы, статьи"
Своеобразно та же тема одиночества, но уже как неизбежного удела творческой, художественной личности, – преломляется в пьесе „Милые призраки“. Сама пьеса отчасти напоминает собой тот парад „милых призраков“, который возникал в „Реквиеме“. Во всяком случае Андреев настаивал на том, что он избегает какой бы то ни было историчности и биографичности. „Я представлял себе своего собственного Достоевского – таким, каким он мне казался в момент его работы над „Бедными людьми“. Это – как бы призрак Достоевского, так же как Незабытов призрак Белинского. А персонажи пьесы – отражение персонажей романов Достоевского“»[61].
Образ Достоевского давно занимал собой воображение Андреева. В его произведениях содержатся многочисленные скрытые и явные цитаты из сочинений великого писателя, полемические выпады против одних его идей и прямые переклички с другими. К тому же в Достоевском Андреев видел «крестного отца» своего творчества. Однако пьеса «Милые призраки» не несет на себе слишком сложной идеологической нагрузки. Это скорее пьеса объяснения в любви к Петербургу, в истории которого был и такой замечательный момент, как начало творческой биографии Достоевского. В письмах 1915–1916 гг. Андреев признается в своей страстной влюбленности в Петербург: «…Боже мой, до чего с каждым разом я все больше влюбляюсь в этот город. Брожу часами по набережным, и вид у меня заправского влюбленного, и встречный небось думает: вот вышел на свидание – а любовь-то у меня Питер!»[62] Влюбленность в Петербург неизбежно вызывала потребность в постижении «души города». А «душа Петербурга» – это и воспоминание о Достоевском и его героях, как бы продолжающих населять собой улицы и набережные.
Именно так и раскрывал свой замысел Андреев. «Сквозь создания Достоевского к его жизни и духу – вот мой путь»[63]. Поэтому пьеса густо заселена персонажами, в той или иной степени напоминающими петербургские страницы книг Достоевского.
Автор в окружении прототипов своих будущих героев, в начале творческого пути, еще не признанный, не обласканный, а, напротив, сомневающийся во всем, – в выборе деятельности, в художественных принципах, своих убеждениях. В этом построении Андреев видел принципиальную новизну пьесы, которая, таким образом, точно так же, как и произведения самого Достоевского, по-новому ставила проблему гуманизма в отношении к униженным и оскорбленным и одновременно безнадежно погибшим людям. Существуя в их мире – нищеты и обреченности, молодой писатель Таежников все время колеблется между глубоким сочувствием к бедам этих людей и презрением к их рабской пассивности. Словно Раскольников перед своим преступлением, а в облике Таежникова несомненно сходство с одним из главных героев Достоевского, он все время задается вопросом о причинах пассивности и долготерпения этих людей.
«Что надо, чтобы она возмутилась, где конец этой ужасающей покорности?» – спрашивает он по поводу поведения одной из героинь пьесы. Сам для себя он твердо решил, что будет кричать, будет вопить и неистовствовать, а не покорится: «…Я и в царство небесное войду, только сломавши дверь… будьте снисходительны к гордости пролетария, это единственное, что я еще имею», – с вызовом заявляет он.
Таким образом перед нами молодой бунтарь, юный Раскольников или Иван Карамазов, которого только его несомненный литературный талант; очевидно определившееся призвание пока уводит с пути прямого бунта. Свое отношение к этому миру он еще выразит в своих произведениях. Но и путь общественного бунта для него не заказан.
Однако миссия избранного, миссия человека, взявшего на себя исполнение величественного общественного или творческого долга, неизбежно приводит к отчуждению от людей, с их сиюминутными «жалкими» заботами. Эта миссия поднимает человека на вершины одиночества. Поэтому в финале в Таежникове все отчетливее нарастает осознание того, что он перевалил за какой-то рубеж своей жизни, посвящен в какой-то новый сан, и прошлое, хорошо это или плохо, уходит от него навсегда. Он перестает быть «милым призраком», он все больше обретает сложные и уж вовсе не милые черты. «Публика не почувствовала трагизма моего Таежникова… – говорил Андреев Л. П. Гроссману, – возвышенность его мысли, душевное боление человеческим страданием, великое милосердие в плане творческих вдохновений – и рядом с этим какая-то суровая душевная складка, неприязнь к конкретному „ближнему“ внутренний холод и даже жестокость к любящему существу»[64].
Премьера пьесы состоялась почти одновременно в Петрограде и Москве – в феврале 1917 г., накануне февральско-мартовской буржуазно-демократической революции. Андреев встретил ее восторженно. «…В будущее я гляжу спокойно и с уверенностью. Главное – верю в народ. Он никогда не был глуп, а война сорганизовала его и пробудила в нем чувства патриотизма, гражданского долга и ответственности», – писал он Вл. И. Немировичу-Данченко в марте 1917 г.[65] В статьях 1917 г. в «Русской воле» он с удовольствием цитировал личный дневник начала войны, доказывая, что провидел революционный результат невиданного мирового побоища.
Однако реальный ход исторических событий, развал армии, бесчинства анархистски настроенных вооруженных групп, неспособность Временного правительства наладить порядок в стране, угроза большевистского переворота, сама фигура В. И. Ленина в конце концов побудили Андреева признать, что диалектика русской истории оказывается много сложнее того, что ему первоначально представлялось. Публицистика Андреева в «Русской воле» – это попытка повлиять на трагический ход событий, попробовать отвратить страну от кровавого хаоса гражданской, братоубийственной бойни. «Манифестируйте, шумите, весело ходите по улицам и спорьте, – но будьте вежливы, граждане, будьте ласковы и добры и берегите жизнь друг друга, как драгоценное сокровище. Иначе кто сохранит ее, если вы сами поднимете на нее руку?»[66] – так писал Андреев в статье «Призыв» в апреле 1917 г. Но в письмах к близким Андреев трезво признавал, что и этот и другие призывы не могут быть услышаны уставшим и во всем разуверившимся народом. «Как человек утомленный, солдат хочет, ищет и требует отдыха <…>. За каждым рабочим и мужиком, как за рабом, стоят миллионы рабочих часов, горы целые труда, и труда большей частью ненавистного, „в поте лица“. Как же можно надеяться, чтобы, добыв „свободу“, он прежде всего не захотел отдыха, безделья и сладкого куска?..»[67] А отсюда прямой путь к вере в чудо, к вере в очередную утопию. И символом этой веры в чудо становится для Андреева уже в сентябре 1917 г. деятельность партии большевиков, уверенно идущей к власти. В сентябрьской статье «Veni, creator!» писатель предрекает грядущую победу Ленина, «великого завоевателя»: «Ты победил русский народ. Единый – ты встал над миллионами. Маленький и даже щуплый, ты осуществил то, что не удалось и Наполеону: завоевал Россию…»[68]
Оказавшись после победы Октября на территории независимой Финляндии, Андреев не потерял окончательной веры в благую судьбу России и русского народа. Но он понимал, что российский дом придется отстраивать заново, и это потребует усилий не одного поколения. В письме к своему племяннику Льву Алексеевскому, которое вполне возможно рассматривать как своего рода «духовное завещание», он писал, что работа «предстоит трудная и долгая, но отчаиваться не следует. Может быть, так и надо, чтобы старый дом Россия, затхлый, вонючий, клоповый, построенный по ветхозаветному плану – развалился дотла и тем дал возможность воздвигнуть новое величественное здание, просторное и светлое. Боясь издержек и труда, мы хотели только ремонтировать Россию да сделать некоторые пристройки, а дом не выдержал первого прикосновения и рассыпался весь – что ж, может, это и к лучшему! <…> Будем строить, то есть строить будете вы, молодежь, а нам уже не придется: стары и слабосильны. Но будем и мы, сколько сможем. Будем опять, как при Калите и других, понемногу собирать воедино Украину и Крым, Запад и Восток, будем добывать море и сушу. Я думаю, что по прошествии некоторого времени все эти окраины и части России, которые теперь с такой жадностью стремились к отделению и отделились – с такой же силой и жадностью захотят воссоединения, начнут стремиться друг к другу, как влюбленные и разлученные»[69].
Впрочем, такие «оптимистические» мысли чередовались в сознании и публицистике Л. Андреева 1918–1919 гг. и с более скептическими, более трагическими. В этой-то атмосфере – надежд и скепсиса, отчаяния и веры – и задумывается последнее, итоговое произведение писателя – роман «Дневник Сатаны». Все основные темы рассматриваемого, да и многих предыдущих периодов творчества Андреева заново возникают в романе: это тема театра мысли и правды, который в противоположность театру игры требует от актера «не читки», а «гибели всерьез»; тема человеческой судьбы в этом мире космического сиротства; тема народного сознания, уже готового отрешиться от веры в могущество какого-то надмирного вселенского разума и благодетельность самодержавной власти, но все еще не способного принять мир этот таким, каким он на деле является, а потому и спешащего в объятия очередного изобретателя «Наилучшего Средства Для Счастья Человечества».
Находит в этом романе свое завершение и тема Достоевского, судеб его бунтарей в условиях современности, когда к услугам новых Раскольниковых и Петров Верховенских мощное химическое и психологические оружие, а также движение переставших безмолвствовать, но еще не научившихся многого понимать народных масс.
Жанр «Дневника Сатаны» тоже безусловно связан с увлечением Андреева творчеством Достоевского. Во всяком случае, Л. П. Гроссман рассказывает в своих воспоминаниях о встречах с Андреевым в 1917 г. и об интересе последнего к проблеме художественной природы романа Достоевского[70]. Проблема эта страстно обсуждалась в научно-критической литературе 1910-х гг., особенно после знаменитых постановок романов Достоевского на сцене Московского Художественного театра. Существенное место в этих спорах заняла знаменитая теперь статья известного теоретика символизма и поэта Вяч. Иванова «Достоевский и роман-трагедия»[71]. Принял участие в развернувшемся теоретическом споре и молодой тогда исследователь Гроссман, только-только начавший вслед за Вяч. Ивановым разработку своего взгляда на излюбленный жанр Достоевского как на роман-трагедию, сочетающий эпос с поэзией и драмой, как на философскую поэму в оправе из физиологических очерков[72]. Андрееву, как пишет Гроссман, «показалась близкой и, вероятно, отвечающей его собственной поэтике формула „авантюрно-философского романа“» и «мысль о том, что роман Достоевского представляет собой как бы философский диалог, раздвинутый в эпопею приключений и словесно сливающий Платона с Эженом Сю…»[73] «В житейской мерзости, разросшейся до гротеска, Достоевский различал первую возможность соприкосновения двух разорванных и разобщенных миров, – писал Гроссман. – В сходящихся крайностях убогого разгула и молитвенного подъема он находил целый ряд скрытых соответствий, и последняя ступень „пошлого и прозаического“ раскрывала перед ним неожиданные просветы ко всему фантастическому, надмирному и потустороннему».[74]